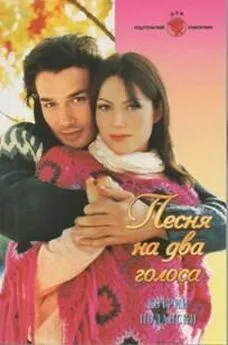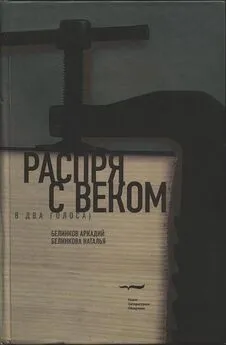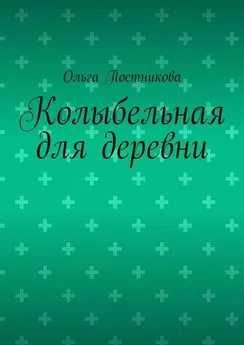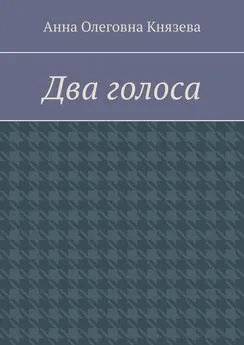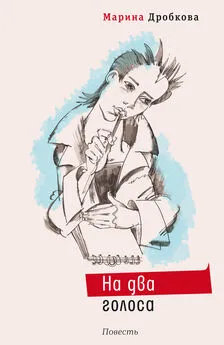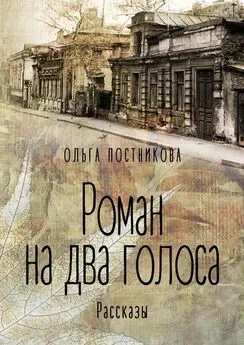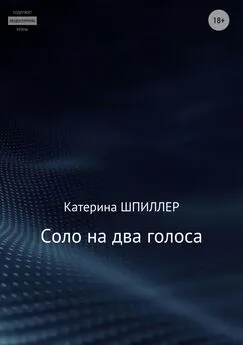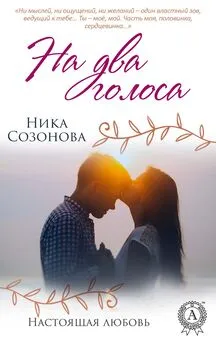Ольга Постникова - Роман на два голоса
- Название:Роман на два голоса
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2000
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ольга Постникова - Роман на два голоса краткое содержание
Ольга Постникова — окончила Московский институт тонкой химической технологии. Работает в области сохранения культурного наследия, инженер-реставратор высшей категории. Автор нескольких поэтических книг (“Високосный год”, “Крылатый лев”, “Понтийская соль”, “Бабьи песни”), а также стихов и рассказов, печатавшихся в журналах “Новый мир”, “Знамя”, “Согласие”, “Дружба народов”, “Континент” и др. Живет в Москве.
Роман на два голоса - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Время от времени она ходила по редакциям журналов в надежде пристроить свои опусы. В коридорах там обычно слонялись ждущие приема авторы. Поэты охотно предлагали, а иногда просто навязывали ей посмотреть свои произведения. Немало было среди них людей психически явно нездоровых, с путающейся речью и судорожными движениями. Как-то изможденная немолодая женщина с прической “ракушка”, в сером, козьего пуха платке на плечах, жаловалась ей: “Не печатают, а мне надо в Союз вступать!”
В знаменитом комсомольском журнале (“цекамоловском”, как говорили тогда) поэтов принимал лохматый прокуренный человек с ироническим взглядом.
Моя поэтесса входила, глубокомысленно потупившись, и садилась, пряча под стул ступни в старых ботинках. Консультант брал стопку стихов и сначала, зажав листы в правой руке, щелкал пачку по ребру, как бы оценивая, не много ли. Потом быстро и равнодушно читал, иногда сосредоточенно выверяя рифмы, и вдруг вскидывался: “Ваши стихи?” Она кивала, боясь сказать, что уж она не в первый раз приходит. Он читал все до конца, решительно откидывая прочитанное, в то же время глубоко затягивая в бронхи сигаретную теплую отраву. Затем метил особым знаком — крестом и минусом — две-три страницы, упирался лбом в собственную ладонь и, тыча тупым концом карандаша в текст, говорил басом: “Это банально. Это свежо, но не ново. Не дотягиваете вы до современного уровня, хоть вы и не графоманка. Попробуйте что-нибудь эпическое. Мне вот это нравится, но ваши стихи очень уж беззащитны. Как их защищать перед редколлегией? Их надо подпереть. Может быть, у вас есть другие стихи?” — “Какие другие?” — не понимала она, пугаясь. “Давайте договоримся, я беру вот эти, а вы пришлите мне в конверте пару гражданских стихов. Подборке нужен паровозик, такое стихотворение, которое вывезет остальные”. Это был самый благожелательный консультант, и она, радостная, шла по улице, хоть и знала, что послать ей в журнал нечего, а гражданские стихи ей были известны из школьного курса литературы: “Люблю отчизну я, но странною любовью”.
В других местах ее встречали гораздо хуже. Как-то случился такой эпизод. В редакционном предбаннике бледный и весьма уже немолодой человек читал стихи о том, как он видит свою любимую — трупом со снятой кожей (“плоть как разбитый арбуз”). Когда подошла очередь моей стихотворицы, он вскочил в святая святых впереди нее с криком “Напечатайте ее!” — должно быть, в благодарность за то, что она сочувственно выслушала его коридорные завывания. На это ответственный сотрудник журнала, взревев: “Мы — профессионалы!”, выхватил из рук нашей барышни ее листочки и, выкрикивая по одной начальной строчке каждого стихотворения, возмущенно вопрошал: “Это напечатать? Это напечатать?”. И затопал на нее, бедную, ногами: “Мы не допустим эротики в молодежном журнале!”
Действительно, все ее стихи были о любви, и все они были посвящены одному лицу, которое представало как некто длиннопалый и смуглолицый. Красота адресата особенно отвращала от стихов вершителей поэтических судеб. Да еще ее строки пестрели старомодными оборотами и чуть ли не цитатами из Библии (“Глаза твои голубиные”), и хотя ссылок она не делала, в журналах нюхом чуяли что-то опасно архаическое в тексте.
Но и ее возлюбленный стихов этих не знал и даже когда она пыталась прочесть ему вслух (“Новое придумала”), говорил: “Не надо, я в этом ничего не понимаю”. Он не обольщался насчет ее даровитости, а поэзии вообще не любил и относился к стихам слишком рассудочно. И переспрашивал желчно, когда она читала вслух Пастернака: “И таянье Андов вольет в поцелуй”? Это как-то противно и получается: холодные слюни. А разве не унизительно для женщины: “Он вашу сестру как вакханку с амфор поднимет с земли и использует”?”
17
Однажды на свалке железного лома у Киевского вокзала он нашел старый печатный станок, выкупил его у сторожа и привез домой, подрядив на вечер фруктовую тележку. Долго возился с наладкой, вызолотил бронзовкой дату “1875” и рельефные листья, украшавшие чугунную станину и, наконец, обильно смазав черную машину маслом, опробовал пресс.
Он всегда любил рисовать и в Бауманском, куда срочно поступил, чтобы не попасть в армию после десятилетки, легко сдавал бесконечные чертежи, быстро справляясь с проекциями, над которыми кряхтело большинство его сокурсников.
Еще в школьные годы, когда вернулся с матерью в Москву, он занимался в студии и ходил с папкой ватмановских форматок в районный дом пионеров. Там, в светлой комнате с высоченным потолком, стояли на обитых кумачом подставках гипсовые слепки с античных голов под сатиновыми черными накидками, и учитель, задав юным дарованиям рисовать кувшин или чайник, ходил медленно между столами, монотонно повествуя о своем гимназическом детстве.
Технику гравюры на дереве мой герой представлял из разговоров студентов, когда подрабатывал позированием в Строгановском училище. Надо было сделать такие плахи, чтоб дерево при высыхании и хранении в тепле не коробилось и доска всегда оставалась плоской. Сначала он заказал доски и договорился с работягой о сосновых по три рубля за штуку. Но, когда рассмотрел полученные изделия, понял, что они склеены неправильно, что от краски, от сырости доска пойдет горбом, и решил делать сам, начитавшись дореволюционных брошюр по художественным ремеслам.
18
В “ящике”, где он работал, кроме планового оборонного производства во всю кипела “левая” созидательная деятельность. Стеклодувы, запаяв сотни ампул со стратегическим содержимым, отправлявшимся в хранилище, занимались изготовлением смешных глазастых фигурок и даже рюмок. И в разгаре производственного романа с какой-нибудь лаборанткой влюбленный мастер делал даме сердца традиционный подарок, стеклянного чертика с характерным отростком, — внутрь чертика можно было наливать воду, “чтоб прыскал”. Из иностранных пивных темных бутылочек, размягчив стекло нагревом в муфеле и специально смяв “чекушку”, делали занятные пепельницы с длинными ручками.
Слесаря вытачивали всякие необходимые в хозяйстве металлические детали, которые в нашей, самой передовой по производству чугуна и стали стране, невозможно было купить ни за какие деньги. Эти вещи никогда не делали серийно, потому что вынести их на продажу через проходную было трудно. Изделия курсировали внутри самого предприятия. Обычной платой был спирт, который являлся эквивалентом всему. Все имело свою таксу, от наладки лабораторного оборудования по наряду до смоления лыж и починки утюга. Денег не брал никто, даже обиделись бы, если спросить, сколько стоит работа, но за двести или пятьсот граммов этанола творили чудеса.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: