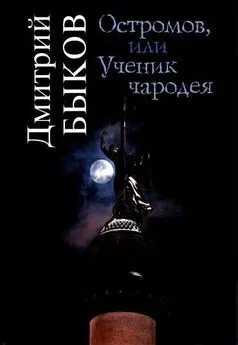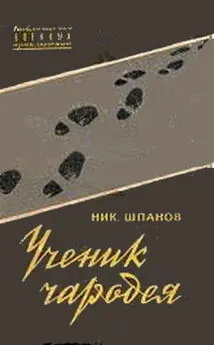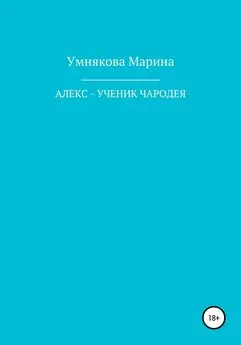Дмитрий Быков - Остромов, или Ученик чародея
- Название:Остромов, или Ученик чародея
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ПрозаиК
- Год:2010
- Город:Москва
- ISBN:978-5-91631-094-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дмитрий Быков - Остромов, или Ученик чародея краткое содержание
В основу сюжета нового романа Дмитрия Быкова «Остромов, или Ученик чародея» легло полузабытое ныне «Дело ленинградских масонов» 1925–1926 гг. Но оно, как часто случается в книгах этого писателя (вспомним романы «Орфография» и «Оправдание», с которыми «Остромов» составляет своеобразную трилогию), стало лишь фоном для многопланового повествования о людских судьбах в переломную эпоху, о стремительно меняющихся критериях добра и зла, о стойкости, кажущейся бравадой, и конформизме, приобретающем статус добродетели. И размышлений о том, не предстоит ли и нам пережить нечто подобное.
Остромов, или Ученик чародея - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
— Я ничего не буду у него просить, Елизавета Дмитриевна, — сказал он твердо. — Мне нужно только понять…
— Как вы похудели, Даня, — сказала она грустно. — Ничего уже от юноши, совсем мужчина. У вас было такое славное круглое лицо.
— Терпеть его не мог.
— И напрасно! — горячо прошептала она. — Это, может быть, лучшее… этого уже теперь не вернешь.
— Потолстеть всегда можно.
— Будет не то… Впрочем, что я. Если вы нигде еще не остановились, то милости прошу ко мне, а если не хотите, найдем, у меня есть тут знакомые, из местных. Рады будут свежему человеку.
— Я думал до вечера всего, — сказал Даня не слишком искренне. Он надеялся, конечно, побыть с учителем подольше и отпрашивался на неделю, но допускал и то, что Остромов теперь закрыт от прежних адептов и ограничится беглыми указаниями.
— Как знаете. Но если что — я всегда вас устрою и с разговорами навязываться не буду…
— Да мне в радость. Я очень давно так ни с кем не говорил. Мне и не с кем.
— Да, да. — Савельева вдруг заторопилась. — Вы идите. Я понимаю, что вы не ко мне, а к нему. Тогда, наверное, чем скорей, тем лучше. Он на базаре, Даня. В это время обычно на базаре. Идите. Если хотите, сумку оставьте.
— Нет, нет. Я так.
— Ну, хорошо. Только помните: не удивляйтесь и не требуйте большего…
— Я не удивлюсь, Елизавета Дмитриевна, — сказал Даня слишком значительно, и она улыбнулась.
— Обедать приходите непременно. У вас деньги есть? У меня сейчас есть, пьеса ведь, давайте я вам дам, купите зелени к обеду, сварим щи…
Монахиня Амальфия варит щи, подумал он. Всему научишься в этой России.
— Да у меня есть, я ведь работаю.
— Все там же? Учет чего-то?
— Учет, — сказал он. — Ну, где у вас базар?
Она объяснила: от Энгельса направо по Московской, через три квартала налево, а дальше он увидит.
— Спасибо, Елизавета Дмитриевна.
— С Богом, — она поцеловала его в лоб, встав на цыпочки, и быстро перекрестила. — Так я жду обедать.
Он вышел, поймал на себе странно злобный взгляд старухи на лавке — вечно праздной русской старухи, регистрирующей белесым глазком всех приезжающих, умирающих, несущих в дом зелень для щей, — и зашагал по пустынной, пыльной улице Энгельса, безрадостной, как семья, частная собственность и государство.
Была суббота, базар бурлил, пахло селом — навозом, убоиной, дегтем. Дане казалось, что это и есть настоящие русские сельские запахи. Татарские села пахли иначе — дымом и особым крымским кипарисным духом, пропитывавшим на полуострове все. С высокой базарной площади открывался вид на серую, жестяную Суру, тонкую полоску леса и луга за ней. Иногда налетал резкий жаркий ветер, поднимал пыль, кружил маленькие спиралевидные вихри. С возов торговали молоком, свежим хлебом, розовым салом, босые девчонки с ногами в коросте протягивали кульки семечек и земляники. Даня слышал, как голодали тут семь лет назад, и дивился, как быстро все зарубцевалось: это был хоть и небогатый, а все же сытный и шумный рынок со всем, что положено, с огурцами и медом, и даже первыми июньскими грибами, в которых все же было что-то ненастоящее, потому что пахли они — Даня остановился, взял, понюхал, — не грибной прелью, а травой. Он шел по рядам, между палатками и возами, высматривая учителя, — и все-таки заметил его не сразу.
Да и мудрено было узнать Остромова.
С удивительной своей способностью к приспособлению он мимикрировал и здесь, хотя мимикрия его всегда была с легким диагональным сдвигом, — чтобы выглядеть не таким, как все, но ровно таким, какими таинственные мудрецы должны представляться в новой среде. Здесь не нужны были ни шапочка, ни надменность, ни цитаты. В нем появились теперь черты провинциального и даже сельского чудака, знающего, однако, нечто такое, что лучше с ним не связываться. Он отпустил седоватую бородку, негустую, слегка кучерявую. Куполообразная голова даже в пустынеобразную жару была покрыта блинообразным серым картузом. Остромов странным образом пополнел — или так казалось благодаря бесформенному и тоже облезлому пальто, в которое он здесь облачился? Изменились даже круглые серые глаза — они смотрели теперь с подозрительным прищуром, с каким глядят на посторонних все сельские жители: этот чудак был себе на уме и готов был ежесекундно дать деру. Даня вовсе не признал бы его, если бы не резкий выкрик:
— Гороскопы, гадания о будущем, целебные снадобья от всякого недуга! Разрешено губначздравом Стецким, прошу, товарищи!
Остромов был нищ, это было видно. Нищета его была не та, что у Одинокого, не профессиональная, не то впадение нищего духом в органичнейшее, свободно выбранное состояние, в котором его низкая, живущая чужим подаянием душа попадала наконец в естественное положение, — но нищета унизительная, еще не ставшая бытом, нищета птицы, которой запретили летать, скудость жизни мастера, у которого отняли ремесло. Ни одно из его бесчисленных умений не годилось в этом мертвом городе, холмистом, но плоском, каковы бывают только города без будущего, укромные мучилища средней России. Здесь некого было виртуозно обмануть, ограбить так, чтобы обогатить — опытом, знанием, хотя бы новым словом, которым можно будет потом морочить других. Здесь годилось только пошлейшее, грубейшее шарлатанство, которому несложно выучиться — но, в отличие от виртуозного обиралова, оно что-то заземляющее делает с душой. Пензенские обыватели не хотели бессмертия. Их беспокоил желудок, и Остромов вынужден был снабжать их желудочными снадобьями, изготовленными по древним алхимическим рецептам. Он поднялся бы, но тут неоткуда, да и некуда было подняться. Эта яма не предполагала разбега для взлета. Отсюда можно было только выползти, и он выползал и ненавидел себя за это. Самая плоть его огрубела и отяжелела. Он прежде любовался своей гладкой, упругой кожей, — теперь это был серый пергамент. Пенза жрала его. Но больше всего ненавидел он свое прошлое, Петербург, людей оттуда. Все-таки эти мрази знали, куда его выслать, — у таких нет ума, но есть преувеличенно развитое чутье. Если бы Кавказ, блаженный Кавказ! Там он развернулся бы, а то, как знать, и ушел бы через Батум, каналы были. Ему рисовалась даже Турция. Но его послали сюда, в глухую Россию, где спали на душных перинах, жили приплюснуто, в комнатах с тяжелыми сводами, с низкими клопиными потолками, где храпели, рыгали, крестили рот, ничему не верили, шпионили за любым чужаком, а чужак был любой, кто не прожил тут с чады и домочадцы тридцать лет и три года. Те, что поумнее, хранили в сундуке врученного в гимназии Надсона. Год он задыхался в этом городе, а через год приспособился, но нечто было утрачено невозвратимо. И всякое напоминание о своей прежней блестящей жизни он ненавидел мертвой, тупой пензенской ненавистью — это она, тяжелая, как зимняя вода, заполняла теперь его душу и тянула книзу, это она жила теперь там, где прежде обитало легкое, блескучее, окрыляющее презрение.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: