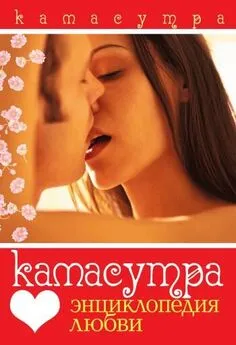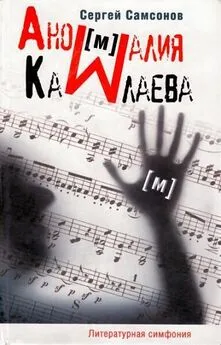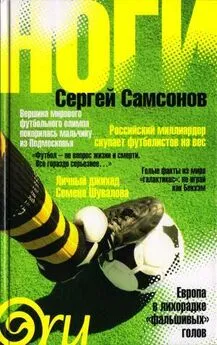Сергей Самсонов - Кислородный предел
- Название:Кислородный предел
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ЭКСМО
- Год:2009
- Город:Москва
- ISBN:978-5-699-38646-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Самсонов - Кислородный предел краткое содержание
Новый роман Сергея Самсонова — автора нашумевшей «Аномалии Камлаева» — это настоящая классика. Великолепный стиль и чувство ритма, причудливо закрученный сюжет с неожиданной развязкой и опыт, будто автору посчастливилось прожить сразу несколько жизней. …Кошмарный взрыв в московском коммерческом центре уносит жизни сотен людей. Пропадает без вести жена известного пластического хирурга. Оказывается, что у нее была своя тайная и очень сложная судьба, несколько человек, даже не слышавших никогда друг о друге, отныне крепко связаны. Найдут ли они эту загадочную женщину, или, может, ей лучше и не быть найденной? Проникновенный лиризм, тайны высших эшелонов власти и история настоящей любви — в этом романе есть все, что может дать только большая литература!
Кислородный предел - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Вернувшись в клинику чуть больше месяца назад, он проводит в операционной по двенадцать часов в сутки. Он и раньше был стахановцем, но сейчас ни одна, даже самая искусная и привычная к мартыновским нагрузкам операционная команда не вьщерживает ритма; Шлиман, Ира и Душевиц в один голос говорят о саморазрушении и что пусть Мартын не жалеет себя, но хотя бы о здоровье пациентов позаботится: при таком предельном напряжении даже он, Нагибин — безотказная, сверхточная машина, чьи движения выверены до микрона, — однажды обязательно даст сбой, спровоцировав гибельный коллапс, роковое кровоизлияние. По одной эндоскопической подтяжке каждый день — занимающей не меньше трех часов, — это чересчур.
«Хочешь доконать себя — пожалуйста! — заорал, не выдержав невозмутимый Марик. — Но не делай ты заложниками пациентов». Нагибин поманил его к себе, подвел к стеклу и показал глазами на недавно выровненный профиль пациентки. Молча вопросил — хоть один изъян, хоть один нечаянно задетый прободающий сосуд, хоть один пугающий отек, в конце концов, который не сошел на нет в положенные сроки? А на нет и суда нет. Протянул запястье, дал пощупать пульс. Что? Пустое сердце бьется ровно? Из — за этой проклятой необходимости жить, из-за этой неспособности сделать хоть что-то со своей телесностью он, Нагибин, и вернулся в клинику, из-за этого невыносимого здоровья и затеял гонку словно бы по выведению новой человеческой породы, у которой плоть была бы не стесненной, не придавленной, не деформированной, не обезображенной ничем и, тугая, крепкая, гармонически очерченная, целовалась с воздухом и светом как бессмертная. Он и в самом деле словно бы утратил человеческие свойства, стал машиной, приобрел выносливость металла.
Никогда не числивший за своим дисциплинированным искусством ни единого признака бунта, он сейчас нарочно брался лишь за наиболее уродливые отклонения и деформации: за чудовищные жировые фартуки, за похожие на оползни птозы атрофированных тканей, за необратимо пухнущие залежи адипоцитов, за стабильные, как вечная мерзлота, амазии. Пребывавший некогда в полюбовном согласии с неотменимыми законами природы, он, Нагибин, ныне каменел в отчаянном усилии остановить время, ибо время может двигаться только в сторону старения и смерти, и его искусство стало как железная плотина, о которую время пациентских жизней разбивалось, словно хлещущая из пробоины вода, обращалось вспять, покорялось человеческой воле. Должно быть, он считал, что так, ценой вот этого сопротивления докажет Богу, надмирному холодному эфиру, что Он не должен был так поступать, что это некрасиво — обрывать естественное течение неповторимой жизни Зои и попустительствовать умножению искусственной, насильно-рукотворной красоты.
Работа его больше не имела смысла. Смысл был для них — для выводимой им породы людей, которых он, как стадо, загонял в резервацию молодости. Будь он артистом, литератором, художником и музыкантом, работа бы, наверное, и не была бесцельной: «вещи и дела, аще не написаннии бывают, тьмою покрываются и гробу беспамятства предаются, написаннии же яко одушевлениии…» В его же ремесле вот эта переплавка отчаяния в бессмертие Зоиных черт, ужимок и запахов была невозможна. Но чтоб не оказаться наедине с собой хотя бы на минуту, он резал, он формировал сейчас пупочное кольцо и подшивал пупочную воронку к коже с захватом в шов апоневроза…
Отсекши лишнее и сшив послойно все разрезы, он стягивает латекс, маску, шапочку и, поразив броском корзину, покидает операционный блок. Толкнув дверь в кабинет, в который нынче никому нельзя входить без предварительного звонка Нагибину, он вздрагивает… хотя какое «вздрагивает»? Скорее, получает мешком по голове, а как еще возможно описать то чувство тупого изумления, которое Мартын испытывает при виде проспиртованного отца-Башилова. Но что же это так его трясет, как будто он пришел просить опохмелиться? Вскочил и кричит на Мартына, страшный, слепой. (Старик — родная кровь — единственный, кого вот эта экспертиза поразила сразу, наповал, без упования на врачебную ошибку: он затворился в старой их квартире, той, на Чистых, и напивался в одиночку до ос текленения: ткни пальцем, и расколется.)
— Вот это что? Вот это? — хрипит он, потрясая перед носом у Мартына разорванным конвертом экспресс-почты. — Она! Она! Вот деточка моя, вот Зоинька живая! — И по носу Мартына что есть силы конвертом этим хлещет. — А мы… а мы… ее… по… хоронили… Мы!
Нагибина прожгло до нервных центров башиловским благоговением; он вырвал у Башилова конверт — пустой был, — к столу метнулся, на который было вывалено содержимое. Стал пожирать глазами. О, это было образцовое досье: вот целый гардероб вещей как будто из Зоиных шкафов, которые она могла купить сама и, если бы была… купила; вот перечень работ, приобретенных имяреком в одной и той же галерее, причем по ценам лотов Сотбис, вот милое трехлетнее соседство имярека с гражданкой Зоей Олеговной Башиловой, вот справка о том, что гражданин Матвеев, кандидат наук, сотрудник «их» лаборатории, ответственный за получение образцов из костных тканей мертвецов, недавно выехал в Швейцарию по приглашению Лозаннского исследовательского института и заключил трехлетний, потрясающий порядком цифр контракт… — все совпадало, складывалось, вырастало в такую оглушительную достоверность Зоиной сохранности, что оставалось только задыхаться от верноподданнической благодарности по отношению неведомо к кому.
Нет, надо было сразу вывозить ее — куда угодно, в Аргентину, в Австралию, туда, откуда не достанут, а он, кретин, довольствовался тем, что вывез Зою на поля Элизиума, швырнул копейку обещавшему молчать Харону и успокоился. Нет, надо было вывозить, а самому остаться. Что? Не мог так? Боялся упустить из поля зрения девочку хоть на секунду, нужно было бросать семена в эту вспаханную целину, нужно было заставить поверить, что он и она всю жизнь были целое, единая плоть; боялся, что упустит время — Зоя стряхнет оцепенение, и в затуманенном ее сознании что-то щелкнет; как при проявке фотографии, перед глазами сквозь пустоту проступит чье-то любимое, родное, все говорящее лицо, тогда пиши пропало, а на врачей надежда слабая; никто пока не может укротить все эти электрические импульсы в цепях нейронов, никто пока не может заставить человека видеть иное, с Гришей в главной роли, синема во внутричерепном кинотеатре; он, Гриша, думал, верил — да, вопрос лишь в компетентности специалиста, в бюджете операции, а оказалось — нет, все это в воле только одного специалиста, в воле самой природы, которая однажды вынесенного приговора уже не отменяет.
Ну, Сухожилов, как же я настолько обмишурился с тобой? Зверь, монстрище — не человек. Нет, это же какими надо обладать мозгами, какой дубленой кожей, какой холодной, каким нечеловеческим чутьем, каким невероятно изощренным внутривидением, чтобы Гришу вычислить, считать, расшифровать. Тут Драбкин, прятавшийся в глубине салона обычной, не своей «семерки» «БМВ», вдруг вспомнил слова профессора-онколога в тот день, когда он, Гриша, привез безнадежную маму на третий сеанс терапии: «Единственная мудрость сейчас заключается в том, чтобы не признавать смерть». Так просто. Настолько просто, что мы, люди, как правило, считаем такое непризнание бессмысленным. А эти — папа и хирург? Да нет, ведут себя как люди, как человеческое и слишком человеческое — сдулись.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: