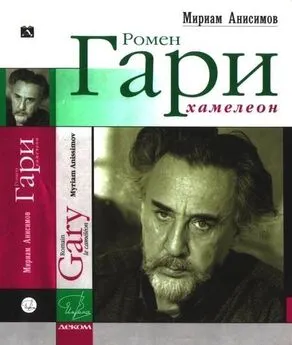Ромен Гари - Чародеи
- Название:Чародеи
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Симпозиум
- Год:2004
- ISBN:5-89091-273-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ромен Гари - Чародеи краткое содержание
Середина двадцатого века. Фоско Дзага — старик. Ему двести лет или около того. Он не умрет, пока не родится человек, способный любить так же, как он. Все начинается в восемнадцатом столетии, когда семья магов-итальянцев Дзага приезжает в Россию и появляется при дворе Екатерины Великой...
Чародеи - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В течение последующих дней я ничего не сказал отцу — я боялся, как бы он не умер. Таким образом, я один пережил эти муки, не в силах разделить их с тем, кому они принадлежали по праву. Я оставил все страдания себе: каждую ночь я возвращался на место казни.
И все же я находил странное утешение в том, что Терезина счастлива. Не могу объяснить, откуда у венецианца появилась такая широта взглядов, может быть, моя любовь к ней столь прочно обосновалась в моем воображении, что мечта о ней не могла быть затронута и разрушена никаким проявлением низкой действительности.
Во всяком случае, каждый вечер я покидал лагерь и скакал к проклятому месту их свиданий. Там, проскользнув сквозь листву, я хладнокровно наблюдал всю сцену незамутненным взором. Я не предполагал в себе такой широты, такого участия к чужой радости. Сегодня я говорю себе, что таким образом я искал средство от своего любовного недуга, подвергал свои сказочные сны испытанию самой низкой действительностью. Но мечта всякий раз выходила победительницей из этого испытания огнем: ничто внешнее не могло поколебать моего призвания иллюзиониста. Терезина всегда возвращалась чистой из этих объятий, из попытки экзорцизма, которому подвергало ее мое воображение. Я продолжал мечтать о ней, я вновь придумывал ее с несказанной нежностью. Мечта становилась моей тайной натурой. И поскольку я обещал здесь не скрывать ничего из того, что о себе знаю, должен признаться вам, что мне часто случается ставить на мечту, не оставляя ее противнице Реальности более половины дохода, — этим, может быть, объяснимо мое долгожительство, столь удивлявшее многих, ибо, живя в реальности лишь наполовину, совершенно естественно, предположить, что мой запас жизни прирастает вдвое.
Иногда мне случается сомневаться в том, что эти нежности на островке, которые я вижу ясно, как сейчас, в действительности имели место, — не знаю, является ли это сомнение уловкой, призванной оградить мою мечту — или целомудренность моих читателей. Иногда мне кажется, что я все выдумываю, в том числе и себя, и не знаю, что это — умение чрезвычайно ловко ускользать от страдания, игра, которую я, старый лукавый кот, не умеющий забыть и плетущий интригу, веду с мышами воспоминаний, — или я взбалтываю эту болезненную муть, чтобы окунуть свое перо в свежую боль, столь благоприятствующую творению, ведь ничто не подпитывает лучше плод литературного труда. Я существую, друг читатель, лишь для твоей услады, все прочее — лишь жульничество, злостный обман. Все, в чем я уверен, — что я сижу у огня у себя дома на улице Бак, осмеянный и презираемый за свою безграничную преданность ремеслу чародея, такому немодному сегодня; на моих коленях — тетрадь, на голове — вольтеровский колпак, хранивший меня от сквозняков на протяжении столетий, я почесываю с плутоватым видом кончик носа, достойный потомок Ренато Дзага, выворачивающий карманы своей жизни, чтобы не упустить ничего, что могло бы обогатить мое повествование. А все прочее — история, и я пристально вслушиваюсь в ее бормотанье, ведь и в ней можно отыскать кое-что подходящее. Помню, однако, как я сказал однажды отцу после ухода Терезины:
— Возьми пистолеты и пойдем со мной.
Он лежал на спине близ скачущего, как чертик, огня, не скрывавшего свою зависть и бессильную злобу перед пренебрежительным блеском звезд.
— Это еще зачем? Убийств здесь без меня хватает.
Уверенность покинула меня.
— Терезина…
Несколько секунд прошли в молчании, потом Джузеппе Дзага промолвил:
— Я знаю.
Я словно окаменел от полного непонимания — с этого дня меня трудно было поразить чем-либо, как будто за один раз я исчерпал всю мою способность удивляться.
Отец смотрел на звезды. Он скрестил руки на груди, на его лице застыло то спокойствие, которое, по словам Саллюстия, всегда овладевает человеком, находящимся на крайней ступени страдания.
— В былые годы знавал я в Венеции одного танцора по имени Вестрис. Этот Вестрис был столь знаменит, что несколько поколений танцоров потом выступало под его именем. И вот на склоне лет он услыхал жалобы одного молодого актера на то, что жена его как-то уж слишком часто стала ему изменять. Старик Вестрис дружески похлопал молодого человека по плечу и сказал: «Мой друг, мой юный друг, не стоит забывать о том, кто ты, к чему ты стремишься. Ты работаешь в театре, так? Ты актер, так? Так вот, запомни хорошенько: в нашем деле рога — это как зубы: вначале, когда они режутся, это чертовски больно, потом боль проходит, к ней привыкаешь, а кончаешь тем, что ими ешь!»
Я был возмущен. Наши враги всегда распускали сплетни, что Дзага — племя скоморохов и что все паяцы — люди без стыда и совести. Но в улыбке моего отца было столько грусти, что огоньки веселья стали лишь особой отметкой страдания, а взгляд его, с выражением немого укора обращенный к небу, невозможно было выдержать без боли.
— Она нас обманывает, — пробормотал я.
— Ну да, — сказал отец. — Однако надо жить.
Не думаю, что в горечи этой фразы звучала лишь жалоба на судьбу.
Бесчувственность Терезины лишь усугубляла мое горе. В ней не угадывалось ни капли стыда или раскаяния. Надо признать, что никто еще не видывал счастья, изнуряющего себя муками совести — на потребу тем, кто считает счастье некой болезнью, разрушающей принципы и моральные устои. Возвращаясь по утрам, она всегда напевала что-то, и взгляд ее был ясен и невинен, как само утро. Я приписываю это отсутствие угрызений совести ее легкомыслию, тому, что сегодня называют «некультурностью», ведь каждый стоящий литератор объяснит вам, что преступное сладострастие всегда оплачивается приступами раскаяния, и пропишет как слабительное муки бесчестья.
Терезина походя, небрежно гладила меня по щеке и отправлялась спать. Ни капли жалости, ни следа сострадания, можно поверить утверждению, что любовь — суть полное бессердечие. Я шел за ней в шатер. Она раздевалась, смотрелась в зеркало, которое держала перед ней Аннушка, делала реверанс своему отражению и говорила:
— Терезина, дружочек, пойдем скорее баиньки; пока свежо, легче спится.
Я должен признать, что лейтенант Блан, несмотря на щекотливое положение, в которое он поставил себя по отношению к нам, был чрезвычайно обходителен и, видимо, не испытывал и тени смущения. Иногда он беседовал с отцом об итальянском театре, о новых французских книгах, рассуждал о науке и философии; его изысканные манеры позволяли нам занять нейтральную позицию и привести в равновесие пошатнувшийся мир.
Глава XXXIII
Варварство орд Пугачева превзошло все, что можно было ожидать от этих потомков Чингисхана.
Я вспоминаю, как, захватив поместье старого русского дворянина, отказавшегося бежать, благородного старца Андрея Николаевича Рукина, казаки застыли в восхищении перед большими напольными часами с маятником, творением известного швейцарского мастера Колле. Часы показывали не только час, день недели и число, но также фазу Луны и гамму небесных явлений, связанных с движением Солнца и Земли. Искали и не находили ключ, чтобы привести в действие механизм, тогда казаки приостановили казнь старика Рукина, которому к тому времени уже успели отсечь руку: несчастного притащили к часам и, после того как он указал, где спрятан ключ, его увели, чтобы зарубить насмерть.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: