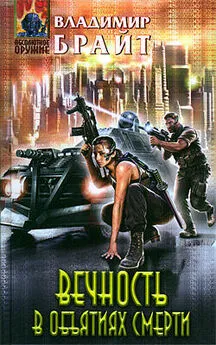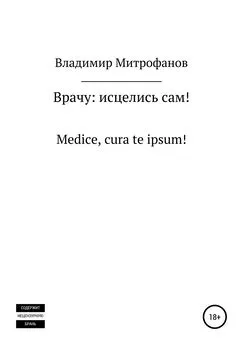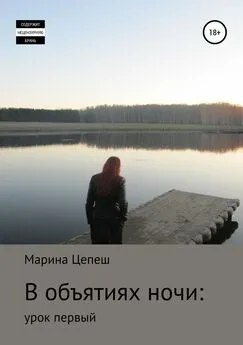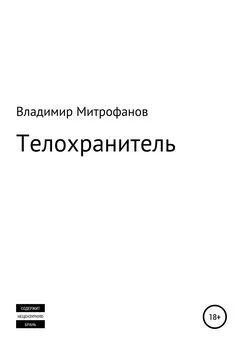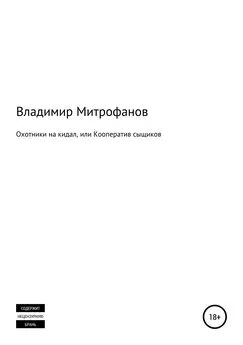Владимир Митрофанов - Кемер в объятиях ночи
- Название:Кемер в объятиях ночи
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Митрофанов - Кемер в объятиях ночи краткое содержание
Кемер в объятиях ночи - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— Ч-черт! М-м-м…
Это был последний день пребывания Григорьева с Машкой в Анапе.
Возвращались на поезде. Кондиционер в вагоне всю дорогу не работал, было жарко и душно. Григорьев лежал на верхней полке, потел, дремал, читал. Пока ехал, прочитал довольно любопытную книжку: чушь полная, но никак было не оторваться. Там описывалась история человека, который оказался один среди женщин чуть ли не на весь остров. Возникла ситуация, когда он мог взять любую, а если какая не хотела, так и не надо. Однако потом возникла система типа некоего местного самоуправления, которое в один момент решило, что семя не должно доставаться одной женщине и мужчиной надо делиться. Какая-то радикальная группировка хотела даже его убить, а точнее, кастрировать: мол, не доставайся-ка ты никому! Настоящая же интрига появилась, когда в обществе появился еще один мужчина, гораздо более молодой и красивый. И этот мужчина был его собственный сын. Далее начиналась история уже накатанная, типа сиквела царя Эдипа. Впрочем, это племя вполне могло размножиться и выжить. Мужики бы в противоположной ситуации просто перебили бы друг друга.
Григорьев и считал, что гораздо интереснее и динамичнее была бы именно эта другая история, где на тысячу мужчин осталась бы только одна женщина. Интересно, один бы человек ею пользовался, или было бы составлено некое расписание? Еще более интересно, если бы она была законной женой одного из них. Десять процентов, склонных к голубизне, в какой-то степени отсеялись, создав собственную группу, в которой тоже кипели бы страсти и совершались убийства из ревности; другие выловили бы и оттрахали некое количество диких коз, однако в целом это тоже не решило бы проблему. Кстати, можно было бы придумать хэппи-энд: однажды к острову, к вящему неудовольствию этой единственной женщины, пристал бы плавучий публичный дом.
От жары все двери в купе были раскрыты настежь. В соседнем парочка молодых ребят, парень с девушкой, готовилась то ли к экзаменам, то ли к переэкзаменовкам. Парнишка пересказывал подруге содержание классических произведений, видимо, перед зачетом, долго вспоминал, чем же закончились «Мертвые души», потом сказал: «Я считаю, его кто-то заложил, стукнули, короче, на него, и он свалил и все такое, типа птица-тройка куда-то там мчится по полям…» Содержание «Евгения Онегина» было передано примерно так: «Короче, один чувак из Питера поехал отдыхать в деревню, там со скуки начал клеиться к одной из двух сестер, в которую был влюблен местный поэт Ленский. Короче, он на дуэли этого Ленского и прибил. А сам он нравился второй сестре Татьяне, но как бы ее отверг, а потом они встретились в Питере, когда Татьяна была уже замужем за генералом. Он тут же в нее и влюбился, но Татьяна послала его на хрен, типа „я другому отдана и буду век ему верна“. Содержание „Героя нашего времени“ в изложении этого парнишки лучше было и не передавать. Например, „Тамань“ была пересказана буквально одним предложением: „короче, этот парень Печорин по дороге на Кавказ заехал в Тамань, там наткнулся на банду контрабандистов и ее разогнал, хотя сам чуть не утонул“. Григорьев подумал тогда еще о том, что во все времена писали, по сути, об одном и том же, просто разными словами и разного качества текстами, а суть всегда была одна: сексуальные переживания, что кто-то кого-то не любит и или, наоборот, любит. Кстати, Печорину было, кажется, двадцать три года, да и сам Лермонтов, когда писал, был по нынешним меркам очень молодой. Наполеон получил звание генерала в двадцать пять лет и императором в тридцать четыре. Матери шекспировской Джульетты было, судя по тексту пьесы, не более двадцати восьми лет. Тогда было другое течение и другое восприятие времени.
В том же вагоне ехал домой и дембель совершенно дикого вида: и погоны и карманы и вообще все швы камуфляжа были у него прошиты декоративным белым шнуром. Это дембель был глубоко убежден, что дедовщина в армии не только неизбежна, но и просто необходима. Как вообще тогда управлять солдатами? Когда удивленный Григорьев спросил его, били ли его самого, тот ответил, что нет, потому что он сам украинец, и там еще был украинец и один из „дедов“ был украинец, поэтому его и не били. Кавказцев тоже не били. У них там была своя национальная диаспора, поддерживающая земляков. Били почему-то только русских, и никто за них не заступался. Он уверял, что дедовщина была всегда, и, без сомнения, существовала еще и в древней Спарте, а наверняка еще и в более доисторических племенах, причем, самая что ни на есть жесткая. В Инженерном училище, где учился великий Достоевский, тоже была дедовщина и, судя по воспоминаниям современников, довольно жестокая. Целью такого воспитания якобы является тренировка характера, способности держать удар и выносить невзгоды службы. Дедовщина процветает в школах, лагерях отдыха и даже в детских садах. Она возникает автоматически: старшие угнетают младших, но и в то же время эти же старшие защищают своих подопечных от чужих старших. Незыблемые законы человеческого стада. Непременное деление на „своих“ и „чужих“. Помнится, у Машки в детсадовской группе был такой мальчик по имени Аслан, который бил вообще всех детей, кто только под руку попадется.
Этот безумный дембель внешне был чем-то похож на Фила — одноклассника Григорьева. Фил после школы пошел в военное училище и до сих пор все еще служил, периодически попадая на Кавказ, и однажды как-то даже позвонил оттуда Григорьеву то ли с дежурства, то ли из какого-то города (Григорьев так точно и не понял), рассказал, что живет в палатке, что на улице уже который день тридцать градусов мороза, и что он даже спит в каске, и в ней же варит кашу. Григорьев в этот самый момент ел котлеты и смотрел по телевизору футбол.
На войну Фил попал уже сложившимся человеком, психически был очень устойчив и никаких послевоенных синдромов не испытывал, а воспринимал боевые действия как тяжелую, грязную, но необходимую и высокооплачиваемую работу. Он считал, что все эти боевые стрессы действует только на молодых пацанов, смеялся:
— После всего этого я разве что стал по-другому воспринимать лес. Сейчас, даже идя за грибами, подсознательно смотрю под ноги: нет ли где растяжки, и отмечаю подходящие места для засад, и не могу ничего с этим поделать.
Из григорьевского класса реально воевали трое: Фил, Соболь и Леня Катышев. Соболь — тот попал в Афган. Об армии советского времени остался крайне плохого мнения. Там у них в части была дикая заболеваемость дизентерией и прочей кишечной заразой. Несколько ребят, которых он знал лично, умерли от дизентерии, один — прямо в сортире, откуда до этого не выходил три дня. У него самого с той поры осталась повышенная чувствительность к пище, иногда даже сыпь на теле появлялась, если съел что-то не очень свежее. После дембеля их еще и попытались грабануть в Ташкенте. Заманили в какой-то шалман, будто бы познакомить с девчонками и все такое, напоили, дали покурить что-то типа анаши. Насилу тогда отбились. Тут и пригодился боевой опыт. Кстати, в Афгане им одно время выдавали в пайке сухари из запасов 1923-го года закладки, по крайней мере, так было обозначено на этикетке. Получается, что засушили еще при Ленине, поэтому сухари так и прозвали: „ленинские“.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: