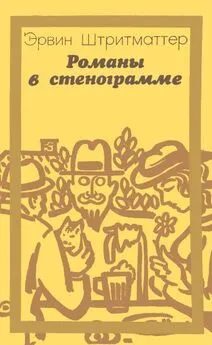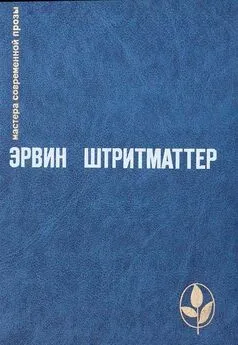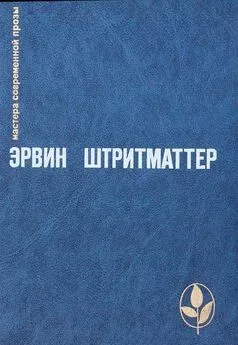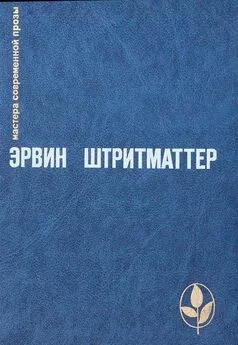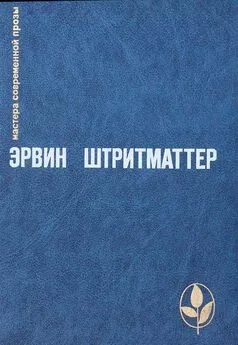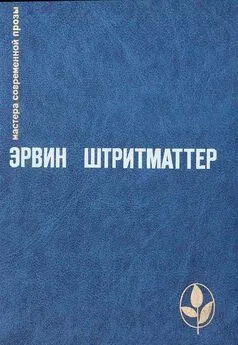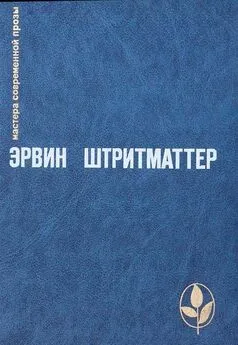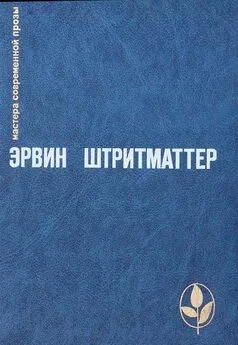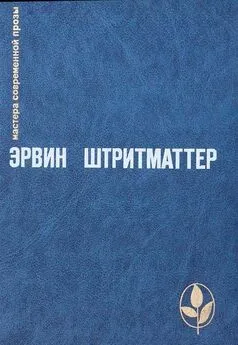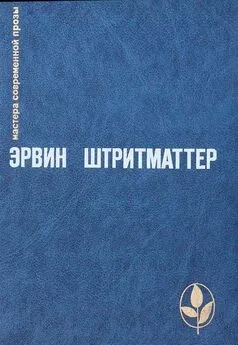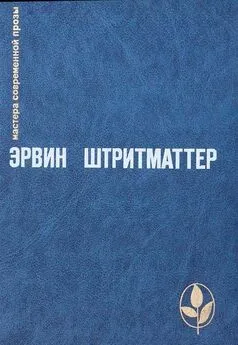Эрвин Штритматтер - Романы в стенограмме
- Название:Романы в стенограмме
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Прогресс
- Год:1978
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Эрвин Штритматтер - Романы в стенограмме краткое содержание
В сборник входят произведения из четырех книг писателя. Из книги «Вторник в сентябре. 16 романов в стенограмме» взяты рассказы о прошлом Германии, о становлении новой жизни в ГДР, ее сегодняшнем дне. Из книги «3/4 из ста маленьких историй» — образцы лирико-философской прозы: зарисовки природы, раздумья о жизни, искусстве, науке. «Синий соловей, или Так это начинается» — цикл новелл о детстве и юности человека, который вступал и жизнь в годы первой мировой войны. Продолжением «Синего соловья» является последняя книга писателя «Моя приятельница Тина Бабе. Три соловьиные истории».
Романы в стенограмме - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Мастер встретил меня приветливо, и тому были свои причины, позже выяснилось какие. Супруги мастера дома не было, она уехала лечиться. Да, ей приходилось лечиться на другом курорте, так как здесь все врачи знали ее, а она знала всех врачей, болезнь же ее была не того свойства, чтоб лечить ее в своем городе, некоторым образом у родного очага.
Итак, я столкнулся с жизненной загадкой, но в то время мне многое представлялось загадочным и каждый человек неповторимым и загадочным. Впоследствии различные события жизни притупили мое восприятие и окружающее утратило таинственность в моих глазах, и какое-то время я думал, что все люди одинаковы, но сейчас мне думается, словно бы в юности я был более прав и словно бы мне с полной сумой жизненного опыта следует вернуться в обитель наивности. Наивность? Нужно ли объяснять, что это такое, раз мы уже сошлись во мнениях о произвольности и относительности человеческих понятий?
В доме мастера жила так называемая воспитанница, то есть нечто вроде ученицы по ведению домашнего хозяйства, она работала не разгибая спины с утра до ночи под началом супруги мастера, но родители воспитанницы соглашались, чтоб их дочь работала не разгибая спины, и ежемесячно платили деньги, оплачивая этими деньгами титул «воспитанница»; они не перенесли бы, если бы их дочь называли служанкой, нет, нет, уж лучше доплачивать воспитателям еще и за то, чтобы платье и белье воспитанницы содержалось в порядке.
Пока супруга мастера лечилась на другом курорте, образованием воспитанницы занялся сам мастер, и он не упустил ничего, чтобы сделать ее украшением среднего сословия.
Мастер, ученик, воспитанница, судомойка, приходящая прислуга, дворник Леппхен и я — все мы обслуживали пекарню, кондитерскую, лавку, кафе и козью ферму, и мастер тянул из нас все жилы как только мог, впрочем, не лучше и не хуже всех остальных городских ремесленников, для которых делом чести было выкачивать из своих работников все, что можно, и, если б кто-нибудь поступал иначе, его сочли бы неспособным вести свое дело, ну, а кто же захочет прослыть неспособным, если его не вынуждает к тому духовная необходимость.
Вот теперь вдруг во мне заговорила моя писательская совесть: а нужно ли все то, что я здесь понарассказал для доказательства, что мой синий соловей взаправду существует на свете? А может быть, это вовсе не моя совесть, может быть, это в голове моей зазвучали знакомые вопросы знакомых апостолов полезности? Навязшие в зубах вопросы заботливых людей: зачем я мараю бесполезными каракулями драгоценную бумагу — ту же валюту? Что такое бесполезность, я доказал на примерах с глиной и фукусом, так что теперь, по-моему, я имею право без помех продолжать розыск синего соловья. Откуда он взялся?
Я вставал в четыре часа утра, готовил в пекарне тесто и посылал ученика будить мастера. Все вместе мы работали часов до семи, потом мастер снова ложился спать, а мы с учеником тащили только что выпеченный хлеб в коробах в город и разносили по домам.
Потом мы работали дальше, мы работали в обед и после обеда до самого позднего вечера. Мы изготовляли из размолотых в порошок хлебных зерен, воды, щепотки соли и палящего печного жара съедобные продукты, по которым нельзя было заметить, что они сделаны из размолотых в порошок хлебных зерен, воды, щепотки соли и палящего печного жара. Мы окрашивали масло в розовый цвет розы, в фиалковый цвет фиалки, в зелень хлорофилла и в коричневый гриба-боровика; из окрашенного масла мы создавали лягушек и лебедей, грибы, и розы, и цветочные орнаменты, и мы напускали их на жителей маленького городка, на больных и здоровых, и люди с открытой душой и разинутыми от изумления ртами встречали наше искусство и пожирали творения его, например розы, которые мы затаив дыхание создавали, выдавливая из тубы крем, вкладывая в них наш тонкий вкус и наше стремление к прекрасному.
Под вечер я преображался: обсыпанный мукой, облепленный тестом, перемазанный шоколадом пекарь перевоплощался в расфранченного кельнера. Черные брюки — в них я мог показаться в любой церкви, белая куртка — в ней меня приняли бы в любую секту, под кадык я повязывал галстук бабочкой и тщательно укладывал волнами свои волосы, о которых ныне не напоминают даже складки моей лысины. Я играл две различные роли, ибо я смотрел на профессии как на театральные роли. Мне хотелось выучить побольше ролей, это доставляло мне удовольствие, но, когда я их выучивал и несколько времени исполнял, они переставали меня привлекать, мне становилось скучно. А когда мне становилось скучно в роли какой-нибудь профессии, я искал новую, пока наконец не нашел профессию, в которой могу играть все роли.
Я обслуживал гостей в кафе и мог брать десять процентов надбавки за услужливость, расторопность и быстроту ног. Чувствовал я себя как артист, который весь день работает в хлеву, а вечером в свете прожекторов демонстрирует почтенной публике своих зверей (в моем случае лягушек и лебедей из масляного крема) и в заключение обходит публику с тарелкой и получает свои чаевые.
Уже в первые дни работы кельнером я заметил некое соотношение между временем суток и пивной пеной: чем энергичнее приближалась к полуночи стрелка электрических часов, венчавших короной шкаф с шоколадом, тем старательней заботился мой шеф и мастер о высоте пенной короны на кружках с пивом, которые я подавал.
Я должен был обслуживать гостей до часу ночи, но многие вовсе не хотели уходить. Одни пили и веселились, другие ругались или тосковали, в конце концов, это было их частное дело, но они ни за что не хотели идти домой и в первом часу ночи, предпочитая выпить кружечку с кельнером, лишь бы не уходить.
Уходил наконец последний гость; я убирал со столов; иногда на одном из кресел или диване в нише, где вечером сидела какая-нибудь дама, сохранялся тонкий аромат, он повисал, осязаемый и плотный, как кусок шелка, в скрученных струях табачного дыма, в нем скрывалось лживое обещание, он волновал меня, несмотря на усталость.
Я сдавал деньги, сумму, подсчитанную кассой, бабушкой современного компьютера, а мелочь, остававшаяся в моих карманах после того, как я отдавал деньги, была моими процентами, моими чаевыми. Почему, собственно, чаевые, почему дают на чай, а не на еду или на сон?
Ох, как же я уставал! Я думал тогда, что только тот, кто работал с четырех утра в пекарне, а вечером и ночью кельнером в течение пяти из семи дней недели, сможет понять, что такое усталость, но я заблуждался, и к этому мы еще вернемся.
Вечером, пока жужжали аппараты в обоих городских кино, народу в кафе было мало. Сидел обычно один помещичий сынок, он служил в чине лейтенанта в прошлую мировую войну и не скрывал, что ждет следующей. Лейтенант не признавал «киноигр».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: