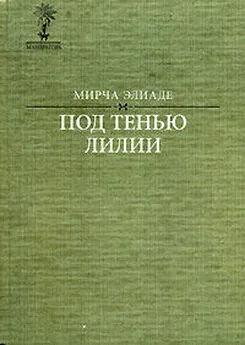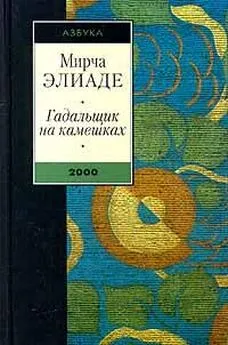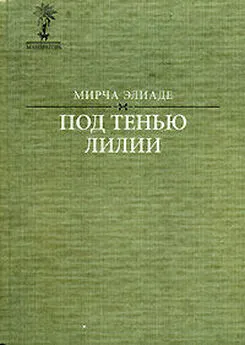Мирча Элиаде - Под тенью лилии (сборник)
- Название:Под тенью лилии (сборник)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Энигма
- Год:1996
- Город:Москва
- ISBN:5-7808-0011-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Мирча Элиаде - Под тенью лилии (сборник) краткое содержание
Диалектика — категория прежде всего духовная, она состоит в «необходимости преодоления противоречий, в устранении двойственности человеческой натуры, без чего невозможно постижение высшей реальности», — так считал Мирча Элиаде (1907–1986), философ и писатель, мировую славу которому принесли полные загадок и тайнописи романы и новеллы, а также исследования по истории, религии и магии. Элиаде долгие годы жил в Индии, постигая суть и практику йоги. Затем преподавал в Европе, в Америке основал свою школу религиоведения.
В личности писателя эрудиция ученого уникально сочетается с визионерскими способностями и художественным даром. Поразительно искусство, с каким Элиаде готовит читателя своих научных трудов и художественных произведений к встрече с труднейшими духовными понятиями, мало-помалу завораживая его псевдореалистическим антуражем, вовлекая в круг своих тем, представляя ему подчас не совсем обычных героев.
Эта книга вобрала в себя лучшие художественные произведения Мирчи Элиаде, объединенные общей метафизической проблематикой. Большинство из них публикуется на русском языке впервые. Сборник открывает новую серию издательства — «Мандрагора».
http://fb2.traumlibrary.net
Под тенью лилии (сборник) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Элиаде предельно точен в интерпретации этих фольклорных подробностей, хотя, как мы увидим, они служат ему лишь точкой опоры для дальнейшего углубления темы. Погибшая страшной смертью Кристина осталась в памяти живых воплощением садизма и разврата, ее именем пугают детей. «Эта девица благородного звания заставляла управляющего имением бить плетью крестьян в своем присутствии, бить до крови. <���…> Сама срывала с них рубаху», «любила взять цыпленка и живьем свернуть ему шейку», а когда мужики взбунтовались, она «принимала их голая, на ковре, по двое, одного за другим. Пока не пришел управляющий и не застрелил ее»; словом, в ней сидел дьявол.
Она и после смерти продолжает наводить ужас и порчу на всю округу. В Евангелии говорится, что «если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода». Посмертная судьба Кристины является как бы сатанинской пародией на эту евангельскую истину: Кристина — не живое, но и не мертвое семя зла, посеянное не в землю, а в подземелье, в преисподнюю, откуда прорастают, облекаются чужой плотью его бредовые побеги. Г-жа Моску, считающая, что Кристина умерла вместо нее, постоянно находится в чудовищной перекличке с потусторонним, нечеловеческим, непозволительным, она изо всех своих слабых сил старается походить на покойницу: и голосом, который идет «как будто из сна, из иных миров», и литературными пристрастиями, декламацией «люциферических» стихов из ее библиотеки, и даже кровожадными повадками — она ловит неоперившихся птенцов и сладострастно их душит. Что же касается ее младшей дочери, Симины, то это девятилетнее серафическое существо — просто-напросто «белая тень» Кристины, ее перевоплощение (similis по-латыни значит «похожий, подобный»). Власть могильной нежити, призрака, дышащего «фиалковым дурманом», распространяется и на кормилицу с «глазами, как голубая плесень», и на домашнюю птицу — «была одна гусыня, да я ее сегодня утречком околемши нашла», — и на весь дом, пропитанный «промозглым, неестественным холодом», в чьи окна так и ломятся целые тучи комаров-кровососов, как бы расчищая путь своей хозяйке.
Но Кристина отнюдь не вульгарный вурдалак, охочий только до свежей крови. Она из породы тех демонических тварей, которых в средние века называли суккубами — эти мучимые инфернальной похотью существа искушали по ночам мужчин, насыщаясь их сокровенной энергией. И ей недостаточно лишь сумеречных, фантоматических встреч с Егором, главным героем романа. Приняв обличье Симины, она средь бела дня завлекает его в погреб, где томятся ее окаянные мощи, чтобы там вступить с ним в связь, которую трудно даже обозначить словами: это своего рода «черная месса», где храмом служит подземелье, престолом — тело маленькой колдуньи, а «святыми дарами» — человеческая кровь и мужское семя.
Кристина — это ночная, хтоническая ипостась все той же Великой Богини, ипостась, которую в Древней Греции именовали Гекатой, в Индии — Кали-Дургой, а в талмудических писаниях — Лилит, первой женой Адама. Если Шакти в своем благом обличье — Матерь всего сущего, «корень бытия», покровительница жизни и плодородия, то Лилит — олицетворение мертвящей, бесплодной похоти, способной порождать лишь призрачное и нечистое подобие жизни. «Из семени, пролитого впустую, — гласит трактат великого каббалиста Исаака Луриа „О круговращении душ“, — Лилит и Нахема творят тела демонов, духов и лемуров» [138] Loria I. Txaite des Revolutions des Ames. P., 1905, p. 218.
. Лилит-Кристина — это черная часть символов «инь-ян», поправшая светлую половину и возомнившая себя владычицей мира; это, как уже говорилось, Луна, ушедшая глубоко вниз, во мрак преисподней.
Элиаде, как всегда, точно рассчитывает хронологию своего романа по лунному календарю. Если действие «Змея» и «Серампорских ночей» приходится на полнолуние, то события, описанные в «Кристине», начинаются в полном мраке, таком осязаемом, что на него можно натолкнуться. А когда луна наконец появляется, Егор тут же связывает ее восход с особенной бледностью вторгшегося к нему призрака: «Это от луны. Как внезапно взошла луна». Луна безжалостная, мертвенная, безжизненно-белая…
Ее загробному гнилостному свечению с первой же страницы романа противопоставляется живой земной свет, будь то лампа с белой калильной сеткой, карманный фонарик или слабый огонек спички. Еще не подозревая о спасительной и очищающей роли огня, который должен разбушеваться в финальных сценах, действующие лица бессознательно, как дети, тянутся к малейшему проблеску пламени, постоянно окликают, зазывают его: «Я боюсь в темноте наткнуться на мебель. Тут нет спичек?», «Следовало бы зажечь лампу…», «У вас есть спички? — Там, на столе, коробок…», «Все его помыслы сосредоточились на электрическом фонарике…», «Нашел спички, зажег большую лампу…» и т. д.
Нежить и нечисть, в какой бы личине она ни являлась, не выносит света: «Погаси лампу, иди ко мне!» — приказывает Егору Кристина. Но он, пройдя все жуткие этапы инициации — ведь выпавшие на его долю испытания вполне можно трактовать как посвятительные обряды, — мало-помалу причащается огню, который становится для него такой же точкой опоры, как и для героя «Загадки доктора Хонигбергера». «Даже луны, даже ее не боюсь, — восклицает Егор. — Впрочем, она скоро сгинет… Луна заходит после полуночи». А когда огненная стихия, вроде бы случайно вырвавшаяся на волю из опрокинутой лампы, уже начинает пожирать заколдованный мирок Кристины, он вспоминает еще о двух символах— железе и кресте: «…мне не страшно, потому что при мне и железо, и крест. К тому же рассвет близко. И тогда уже ничего плохого не сможет случиться». Оба эти символа явственно соотносятся с именем героя: Егорий, Георгий, — это и землепашец, железным оралом оплодотворяющий лоно матери-Геи, и змееборец, вгоняющий железное копье с крестом на древке в пасть хтонического чудовища.
В финальном эпизоде расправы с вампиром отражен двуединый аспект мифа о пахаре-змееборце, ратае-ратнике: Егор вновь нисходит в подземный мир, в «средостение чертовщины», но уже не как пассивная жертва темных сил, а как олицетворение торжествующего мужского начала. С яростью вонзая железный посох в сердце Кристины, он окончательно «овладевает» ею, тем самым пытаясь избавиться от ее дурманных чар. Вместе с Кристиной гибнут в огне все ее исчадия и отражения, ибо они давно уж лишены самостоятельного бытия, независимого от ее ядоносных веяний…
«Девица Кристина» и «Змей» открывают «румынский» цикл художественной прозы Элиаде, продолженный новеллой «У цыганок» и целым рядом произведений 70-80-х годов, которые, бесспорно, являются вершиной его творчества. Вчитываясь в эти внешне скупые, аскетически строгие вещи (вся их духовная энергия ушла в сердцевину, в подспудную и особенно многозначную внутреннюю суть), невольно вспоминаешь цветистую лексику «Майтрейи» или замысловатые композиционные хитросплетения «Змея» — и понимаешь, сколько воды (или крови?) утекло с тех пор, когда молодой Элиаде создавал свои первые вещи. Убеждаешься, как изменился за это время мир, насколько перелицован и обезличен был человек, угодивший под ножницы бравых портняжек с погонами на плечах и партбилетами в кармане. Взять хотя бы рассказ «Пелерина» (1975), само название которого невольно наводит на мысли о перелицовке: «пелерина, да еще с заплатами на месте эполет…» И здесь, как в «Серампорских ночах» и «Змее», луна не только сияет на земном небе, но и предстает в качестве центрального символа, вокруг которого свивается подлинный сюжет. И здесь, как в ранних произведениях Элиаде, светящийся циферблат Луны отсчитывает истинное время, не совпадающее с мнимым временем часов, настроенных по Москве. Это реальное и символическое расхождение, бездонный зазор между правдой и ложью объясняет, помимо прочего, и необъяснимую для агентов тайной полиции псевдозагадку с передатировкой газет, дающую толчок сюжету повествования, как внутреннему, так и внешнему.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: