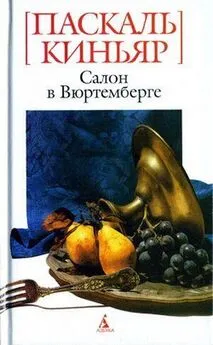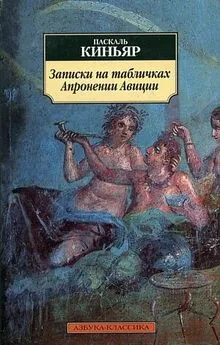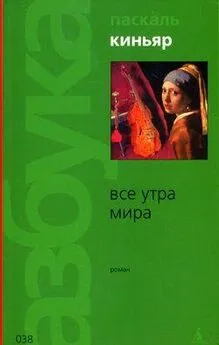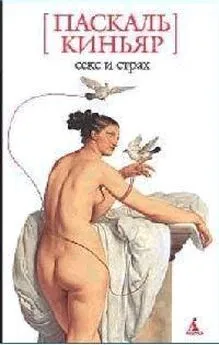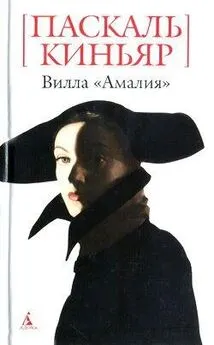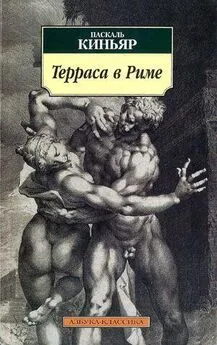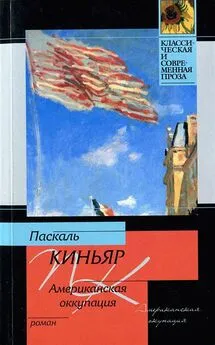Паскаль Киньяр - Салон в Вюртемберге
- Название:Салон в Вюртемберге
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательский Дом «Азбука-классика»
- Год:2008
- Город:СПб.
- ISBN:978-5-91181-636-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Паскаль Киньяр - Салон в Вюртемберге краткое содержание
Паскаль Киньяр – один из наиболее значительных писателей современной Франции. Критики сравнивали этого прозаика, отмеченного в 2002 году Гонкуровской премией, с Маргерит Дюрас. Для его образов, витающих в волшебном треугольнике между философским эссе, романом и высокой поэзией, не существует готовых выражений, слов привычного словаря.
Впервые на русском языке публикуется роман «Салон в Вюртемберге», с которого началась широкая известность Паскаля Киньяра, автора, которому ведом секрет по-прустовски утонченного герменевтического письма. Герой повествования – прославленный музыкант, непревзойденный исполнитель старинной музыки на виоле да гамба, своей сосредоточенностью на внутренней жизни порой напоминает господина де Сент-Коломб из киньяровской повести «Все утра мира». Отказавшись давать концерты и уроки, он затворяется в старинном доме в Вюртемберге и принимается вспоминать все горести и отрады детства и юности. Это в сущности изысканная игра в прятки с самим собой, скитания в лабиринте памяти о тех, кого любил он и кто любил его. Всплывают забытые имена и названия, вкус, запах прошедшего. Карамелькой за щекой и обрывком детской песенки врывается память о потерянном друге, о той безраздельной дружбе, что выше любви.
Салон в Вюртемберге - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Я вновь увидел мою Дидону. И теперь каждый вечер видел Дидону, отворяя дверь домика на набережной Турнель, – она поджидала меня, сидя в передней на консоли, покрытой скатеркой. Какую-то долю секунды она пристально смотрела на меня. Затем, когда я проходил мимо, спрыгивала на пол, и мы с ней шествовали на кухню, стараясь сохранять достоинство и не выказывать чрезмерной спешки или чрезмерного аппетита, как бы ни бурчало от голода у нас в животе.
Мы беседовали целыми часами. Был ли я несчастлив? Не знаю. Я как мог подавлял в себе нечто похожее на смутную грусть. Работал так исступленно, как еще никогда в жизни. Начал записывать музыку. Начал регулярно выступать за границей. Теперь я спал по ночам не больше пяти часов. И играл на гамбе по шесть часов в день. Я уподобился императору Леопольду, который весь день подгонял своих министров, требуя, чтобы ему оставили хоть немного времени для игры на спинете. [60] Леопольд I (1640–1705), император Германии (1657–1705), был известен своей образованностью и любовью к искусствам.
Особенно старательно я отрабатывал владение барочным смычком, учась правильно соразмерять вес тела и давление руки на трость. В те годы только-только начали возрождать старинное правило, согласно которому всякая нота должна кончаться, «медленно умирая». Я достиг совершенства в этих старозаветных ухищрениях. Биографии, которые я переводил, чтобы чем-то заполнить бессонные ночи, чтение книг, к которому прибегал все чаще и с той же целью, вероятно, и внушали мне эти старые понятия, забытые в период вторжения романтической музыки, а также наполеоновских методов и институций, ею порожденных. Я впервые записал с Николаевой и Жоржем Широм сонаты Лейе. [61] Лейе – династия музыкантов и композиторов из Гента (Бельгия). Здесь, видимо, имеется в виду Жан-Батист Лейе (1688 – ?), живший во Франции и сочинивший цикл сонат для флейты, посвященных известным деятелям той эпохи.
Нас критиковали за манеру исполнять адажио с явным уклоном в рококо. Критиковали за чересчур напористую манеру исполнения. Осуждали за студийную запись с последующим монтажом, якобы искажавшим авторский замысел. Честно говоря, критики были правы по всем пунктам, кроме этого последнего. Я не думаю, что в каждой эпохе всегда имелись инструменты, идеально подходившие для исполнения музыки данного отрезка времени. Инструменты вообще не более чем аксессуары, одна лишь музыка – подлинное чудо. Она живет не в звуках, не в инструментах, не в партитурах и не в исполнителях. Она – греза, созданная для слуха. Всякое музыкальное произведение взывает к инструменту, которого не существует в природе. И невозможно восстановить ничего из того, что было прежде. Позже я начал записывать вещи из более ранних периодов. Во время музыкальных радио– или телепередач я много раз вступал в споры с музыкантами слишком узкого профиля, принадлежавшими к Концертгебау [62] Концертгебау – нидерландский королевский симфонический оркестр.
или Концентус музикус. [63] Концентус музикус – венский инструментальный ансамбль, основанный в 1953 г. Н. Арнонкуром.
И сильно шокировал коллег записью двух из девяти «Скорбных сюит» Сент-Коломба, исполнив их на виолончели, – впрочем, здесь не место для описания нашей внутренней, музыкальной кухни. Иногда мне кажется, что большая часть моей жизни – основная ее часть – несовместима со словом. Поэтому здесь я хочу только одного – почтить память человека, которого любил. И который, должен признаться, всегда узнавал об этом самым окольным, самым путаным и самым невыигрышным для меня путем, какой только можно измыслить.
Занятия в Международной музыкальной школе возобновились 1 октября. Каждый вторник я ходил на улицу Пуатье. Начиная с 1 января 1966 года мне предстояло работать более регулярно, два дня в неделю, в издательстве «Галлимар»: я должен был в течение полугода замещать Фердинана Груа, уехавшего на целый семестр в Соединенные Штаты.
Некоторые внезапные волнения способны прояснить загадку незнакомых доселе страхов или тайну назойливого кошмара. В конце зимы в кабинете Фердинана Груа, где я работал, зазвонил телефон. Я узнал голос. Мое лицо мгновенно взмокло от испарины, горло судорожно сжалось. Это был голос Изабель. На самом деле я ошибся, приняв желаемое за действительное. Звонила всего лишь Николаева, чтобы пригласить меня на ужин.
Случалось, мне звонила и мадемуазель Обье. Иногда – правда, довольно редко – чтобы позвать меня на воскресенье в Сен-Жермен. Иногда – чтобы поблагодарить за присланный ей перевод, за пластинку: «Месье Шенонь, позвольте мне сказать, что я заглянула в вашу последнюю книжку и уже буквально глотаю слюнки в предвкушении подробного чтения…» В других случаях она, никогда не позволяя себе жаловаться на отлучки Дени Обье, сетовала на бессонницу, измучившую ее накануне ночью, в свойственной ей манере, неизменно вызывавшей у меня восхищение: «Знаете, месье Шенонь, моя мамочка говаривала: если вертишься с боку на бок в постели, значит, ты еще на этом свете, а не на том». И она смеялась в трубку своим неподражаемым, дребезжащим и грустным смешком.
Окно моего кабинета в издательстве «Галлимар» служило рамкой пейзажу с зазябшим, укутанным в снег садом. Мой рассеянный, слегка утомленный взгляд блуждал между стареньким обезвоженным фонтаном – воду выключили по причине морозов, обрушившихся на Париж еще в январе, – и облысевшими деревьями, чьи застывшие, перепутанные белые ветви воздымались к низкому сумрачному небу.
В нашем чересчур цивилизованном обществе человек опасается откровенных признаний: их стыдно произносить вслух, они ранят самолюбие или, что еще хуже, способны опорочить то представление о нем, которое он хочет внушить окружающим; в результате любой образ становится прискорбно обедненным, бесцветным, невыразительным, плоским, как игральная карта, и, разумеется, в высшей степени пристойным, как и все, что лишено жизни, – вот почему искренность так чарующе привлекательна. Более того, откровения скоро становятся – особенно в конце дня, зимой, с наступлением сумерек, в кабинетике на улице Себастьена Боттена, куда Костекер, или Клаус-Мария, или Эгберт Хемингос заходили за мной и где задерживались, чтобы помечтать вслух, – привычкой, которой вечерние часы или усталость придают особый шарм. Само сознание, что можно слегка принизить себя в глазах друзей, что можно безбоязненно обнажить перед ними свою вполне банальную ранку, внушает иногда непрочную иллюзию, что мы компенсируем самоуважение, от которого притворно отказались, душевным мужеством, рискованным старанием докопаться до истины и охотно демонстрируем это окружающим. Но если вдуматься глубже, откровенность создает у нас ощущение, что мы общаемся с себе подобными, с равными, что доказываем свою принадлежность к людской общности, зарабатывая, таким образом, индульгенцию на будущее; нам кажется, что все мы – животные с одинаково низким развитием, почти одинаково хищные и весьма малочисленные. И мы испытываем умиротворение, почти благодарность при мысли о том, что нам нравится походить друг на друга, ничем не выделяться из общей массы. В конце концов, мы даже находим радость – и сколь редкую радость! – в подобной уравниловке.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: