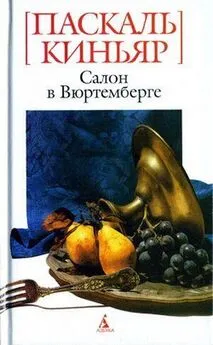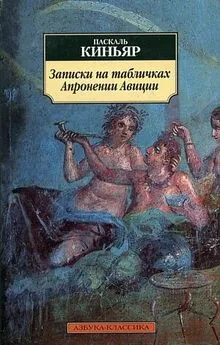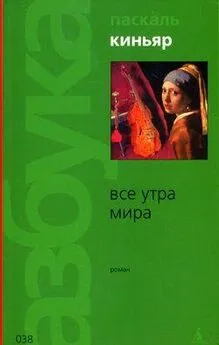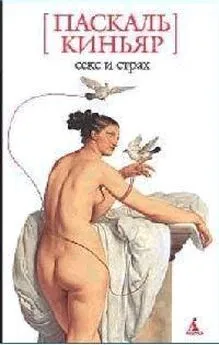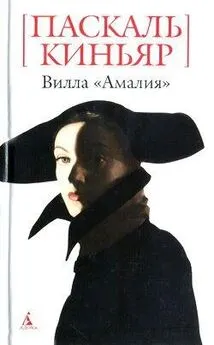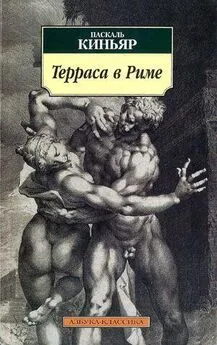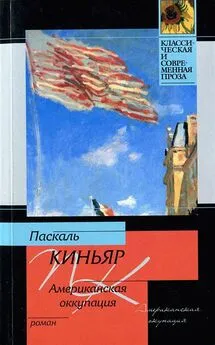Паскаль Киньяр - Салон в Вюртемберге
- Название:Салон в Вюртемберге
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательский Дом «Азбука-классика»
- Год:2008
- Город:СПб.
- ISBN:978-5-91181-636-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Паскаль Киньяр - Салон в Вюртемберге краткое содержание
Паскаль Киньяр – один из наиболее значительных писателей современной Франции. Критики сравнивали этого прозаика, отмеченного в 2002 году Гонкуровской премией, с Маргерит Дюрас. Для его образов, витающих в волшебном треугольнике между философским эссе, романом и высокой поэзией, не существует готовых выражений, слов привычного словаря.
Впервые на русском языке публикуется роман «Салон в Вюртемберге», с которого началась широкая известность Паскаля Киньяра, автора, которому ведом секрет по-прустовски утонченного герменевтического письма. Герой повествования – прославленный музыкант, непревзойденный исполнитель старинной музыки на виоле да гамба, своей сосредоточенностью на внутренней жизни порой напоминает господина де Сент-Коломб из киньяровской повести «Все утра мира». Отказавшись давать концерты и уроки, он затворяется в старинном доме в Вюртемберге и принимается вспоминать все горести и отрады детства и юности. Это в сущности изысканная игра в прятки с самим собой, скитания в лабиринте памяти о тех, кого любил он и кто любил его. Всплывают забытые имена и названия, вкус, запах прошедшего. Карамелькой за щекой и обрывком детской песенки врывается память о потерянном друге, о той безраздельной дружбе, что выше любви.
Салон в Вюртемберге - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Дождавшись своей очереди, я шел или, вернее, крался на цыпочках, боязливо ссутулившись, до боли сжимая кулаки или нервно почесывая нос, к будочке-исповедальне из светлого дуба, окрашенного в бежево-оранжевый цвет. Впрочем, скорее это дерево напоминало цветом скрипку из Миркура. [106] Город в Вогезах, где есть мастерские музыкальных инструментов.
Я осторожно преклонял колени на деревянной приступочке, холодной, твердой и скользкой. У меня сжималось горло. Я с трудом различал шепот, доносившийся сквозь решетку исповедальни, и торопливо повторял про себя, в тишине, священные формулировки, которые собирался произнести вслух, и чудовищные грехи, в которых считал нужным обвинять себя, при полном убеждении, что поступаю благородно и даже, может быть, отважно. Я слышал приглушенное перешептывание в другой исповедальне – обрывки монотонного диалога, который, слава богу, не требовалось, да и не хотелось, разгадывать, истолковывать. Полумрак, запах ладана, стыд за свои ужасные прегрешения – скорее надуманные, чем реальные и заслуживающие порицания, – страх необходимости открыть рот и говорить по-немецки, вдобавок стараясь говорить по-немецки разборчиво, душевный покой, на который я уповал по окончании исповеди, – все это внушало мне благоговейный трепет перед решетчатым оконцем, которое аббат затворял коротким сухим толчком. Сквозь частую буксовую решетку я смутно различал его грузную темную фигуру, золото епитрахили, теплый гнилостный запах его дыхания. Мой голос быстро набирал скорость. Я так боялся этой обязанности высказать все без утайки, оказаться чересчур дерзким и не получить прощения, что то и дело сбивался с ритма. Что ж, такова была жизнь. Я узнал из катехизиса – который преподавал мне не пастор Ганс Нортенваль, а патер Ирриге, – что святая покровительница этой часовни имела счастье умереть на руках святого Иеронима, более того, умереть с ужасающими предсмертными стонами. По каковому поводу святой Иероним изрек, что стон – единственный хвалебный псалом, признанный Господом и приятный Его слуху до такой степени, что Он радостно внимал ему даже из уст собственного сына.
Свершив акт раскаяния – даже сейчас должен признать, что боль, печаль и раскаяние в любом случае гораздо более реальны, нежели облегчение, на которое мы уповаем, и что нет зрелища более благостного, нежели лицо раскаявшегося грешника, разве только вышеупомянутый стон, – и преклонив колени на мраморной ступеньке перед закрытой решеткой алтаря, я погружался в сладостное ощущение освобожденности, легкости дыхания, которое порождало голод где-то глубоко в горле или, вернее сказать, превращало страх исповеди в стремление наесться досыта, в безграничное облегчение, утешение, успокоенность; это чувство так властно захлестывало все мое существо, что я, словно хмельной, слегка пошатывался на обратной дороге, ведущей наверх, к дому. И теперь, признавшись в нескольких проступках, я радовался, что выставил за дверь больную совесть, отправил в небесные кущи своего неотступного ангела-хранителя, избавился от стыда за грехи, от страшных видений и душевных ран, от улыбки матери, или гиены, или удава, или Джоконды, или электрического ската. Те времена давно прошли. От них меня отделяет более тридцати лет. И этот зоопарк отныне прочно стоит на своем месте. Ничто не благословляет и не обращает в прах горькие воспоминания.
Они пробуждаются лишь изредка, когда я сижу, погрузившись в музыку, читая или расшифровывая партитуру, составляя к ней аннотацию, и вдруг слышу внизу, на первом этаже, звонок телефона, заставляющий меня вздрогнуть. Я знаю, что не успею подойти, слушаю этот отдаленный дребезжащий звук и чувствую легкий стыд оттого, что не делаю усилий и не поднимаюсь с места: вот в этот-то миг я и вспоминаю сухой стук решетки, которую закрывал патер Ирриге, и вновь чувствую запах букса и гнилостного духа святости. То же самое повторялось и сейчас – в эти десять дней и десять ночей, когда я всем существом ждал своей очереди исповедаться, жаждал признать все до конца «Сказать Сенесе все!» – таков был звучавший во мне девиз. Но что я мог ему сказать? Ровно ничего. Известно, что святой Флоран, епископ Страсбургский, состоял советником при короле Дагобере, и Господь так возлюбил его, что когда епископ подходил к королевскому трону, он вешал свой плащ на солнечный луч, проникавший в окна или в бойницы. И еще мне помнится, какое удовольствие я испытал однажды вечером – мне было девять лет, – когда шел «наверх» и по дороге до крови подрался с одним мальчишкой-старшеклассником. Из этой схватки я вышел с кровоподтеками на губе, под бронью и на ляжке. Как же я ненавидел тех соучеников, которые не прощали мне французского подданства и акцента, отцовского богатства, моих штанишек из английской фланели, рубашек из тонкого полотна, теплых кашемировых носков! Они только и выжидали, когда я споткнусь, чтобы столкнуть меня в грязь или швырнуть на булыжную мостовую, поколотить, осыпать насмешками да еще нанести удар ниже пояса, оскорбив мою мать, к тому времени вернувшуюся в Кан – они-то считали, что в Париж, – а под конец наградить победными пинками в живот, в колени, в руки, в лицо.
Мне до сих пор слышатся их крики, мое имя, произносимое на немецкий манер: «Кеногн! Кеногн! Кеногн!» – возбужденные крики ненависти, злобы, толкавшей их воевать со мной, бросаться на меня снова и снова, после того как я, уже отказавшись от сопротивления, валялся на камнях школьного двора или на розовых плитах проулка.
Но тут – среди этих детских Страстей – явился Иосиф Аримафейский, [107] Иосиф Аримафейский (родом из города Аримафея, расположенного недалеко от Иерусалима) был членом Синедриона и одновременно тайным учеником Иисуса, похоронившим его тело «в новом своем гробе, который высек он в скале» (Евангелие от Матфея, 27, 60).
он же Клаус-Мария; он вступился за меня, и я снова полез в драку. Жестокость моих противников удвоилась, мои собственные вдохновенные, свирепые, но не очень меткие удары сыпались градом, а окружавшие нас школьники, которых я совершенно несправедливо обзывал эсэсовцами и которые вдруг переметнулись на мою сторону, избрав себе нового кумира, бурно подбадривали меня. Я уже перестал прикрываться и скоро почувствовал, в упоении битвы, как по лицу течет кровь, капая мне на руки, – что ж, победа была близка, и я картинно позволял калечить себя, более того, даже гордился тем, что не уклоняюсь от крови, от схватки; я бил и бил, не зная устали, пританцовывая вокруг своей жертвы. Клаус-Мария держал моего врага за ноги, а я дубасил его, забыв о пощаде.
Каждая секунда этого боя приближала меня к полному триумфу. Голова моя была в кровавом венце. В худшем из исходов есть своя безопасность. Крики зрителей уже не звучали враждебно, они поощряли, грели меня. Я преодолел границу страха, я стал неуязвим для смерти. В сущности, это был мой первый сольный концерт перед публикой – первый и единственный.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: