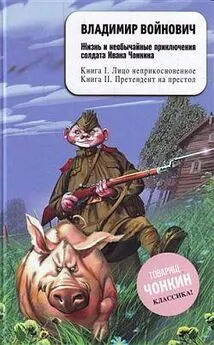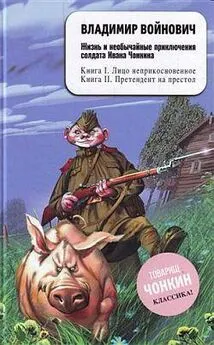Владимир Войнович - Жизнь и необычайные приключения писателя Войновича (рассказанные им самим)
- Название:Жизнь и необычайные приключения писателя Войновича (рассказанные им самим)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Интернет-издание
- Год:2012
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Войнович - Жизнь и необычайные приключения писателя Войновича (рассказанные им самим) краткое содержание
Роман Владимира Войновича «ЖИЗНЬ И НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПИСАТЕЛЯ ВОЙНОВИЧА» был впервые опубликован на сайте газеты «Новые Известия», чьи читатели получили эксклюзивное право на прочтение романа. По ходу публикации писатель учитывал пожелания общественности, внося коррективы в план повествования. Иллюстрации к «интерактивному роману» нарисовал Геннадий Новожилов, оформивший первое издание «Жизни и необычайных приключений солдата Ивана Чонкина».
Интернет-версия «Новых Известий» имеет отличия от бумажного издания
Писатель Владимир Войнович: «Жизнь и необычайные приключения писателя Войновича» — это хроника себя».
Жизнь и необычайные приключения писателя Войновича (рассказанные им самим) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Но человек животное мыслящее, он зову мудрого инстинкта не верит и заставляет себя через него переступить. А когда переступит, тогда уже чем дальше, тем больше может себе позволить. Но когда-нибудь, рано или поздно, жизнь докажет ему, что зря он не внял своему инстинкту.
Умные люди
К зиме нас переселили из школы в другой дом, где мы делили одну большую комнату с учительницей вторых и четвертых классов Марьей Ивановной Шараховой, ее матерью Еленой Петровной и трехлетним сыном Вадиком. Зима была суровая, уборная далеко. По нужде ходили в ведро, стоявшее в узком тамбуре между двумя дверьми. Поначалу жили мирно. Мама с Марьей Ивановной занимались общим хозяйством, носили воду, ходили в лес, валили небольшие деревья, втаскивали их во двор и там на козлах пилили. Иногда и меня к этому привлекали. Мама моя была маленькая, чуть выше полутора метров, но ловкая. Когда-то в молодости она работала в Архангельской области на лесозаготовках, а теперь учила Марью Ивановну и меня, что пилу надо держать ровно, тянуть на себя не резко, не давить и не толкать, когда тянет напарник. Мне казалось, что ей даже нравилось, что она такая вот маленькая, а хватает и сил, и умения и пилить деревья, и колоть дрова, да еще и учить других.
Зимой приехал на побывку выбравшийся каким-то образом из осажденного Ленинграда муж Марьи Ивановны, старший лейтенант. Он развязал «сидор», вещмешок, и оттуда посыпались консервы, кусок сала, два круга колбасы, сухари, пряники, карамельки, что-то еще. Вечером Шараховы устроили ужин и нас пригласили. Оглядывая богатый стол, мама сказала:
— А я слышала, что в Ленинграде ужасный голод.
— Умные люди, — заметил Шарахов, нарезая колбасу, — везде жить умеют.
Мама отодвинула тарелку и сказала:
— Спасибо. Было очень вкусно…
С того ужина в отношениях между мамой и Шараховыми наметилась трещина, которая вскоре переросла в ссоры и скандалы по всякому поводу. То спорили, кому в какой очередности мыть пол, то не могли поделить у плиты две конфорки, то проводили посреди комнаты условную границу, через которую противной стороне переступать воспрещалось. Иногда мама и Шарахова даже пытались между собой не разговаривать, но это не всегда получалось. Бывало, мама говорила:
— Вы залили плиту вашим супом. Могли хотя бы ее протереть.
— Кому мешает, тот пусть и протрет, — отвечала Шарахова.
— Не кому мешает, а тот, кто устроил это безобразие. И горшок после ребенка надо сразу выносить, он воняет.
— Сама воняешь.
— Тьфу, дура! — плевалась мама.
— А ты жидовская морда! — неслось в ответ.
Тем разговор и заканчивался.
Островский писал не только лучше, но и быстрее меня
Я уже рассказывал о том, что рано полюбил чтение и читал все подряд. В Зелененьком была неплохая библиотека, и в ней попались мне пьесы Александра Николаевича Островского. Я взял их с некоторым сомнением, но сразу же зачитался, а дочитав первую пьесу, не помню теперь какую, понял, что в литературе мне больше всего нравится прямая речь. Описания природы или внешности героев, какие у кого были глаза, волосы или уши, меня совершенно не интересовали, я это часто в прозе пропускал, перескакивая сразу к строкам, начинающимся со знака «тире». Поэтому после Островского я читал исключительно пьесы, все, которые мне попадались, включая Гоголя, Шекспира и Шиллера. Но пьесы Островского мне понравились особо тем, что я как-то очень ясно себе представлял все в них написанное. Хотя я и знал (в этом уверяла меня бабушка), что писатели все выдумывают из своей головы, но поверить в то, что и разговоры Островским придуманы, я не мог. И решил попробовать себя в жанре драматургии. Как раз тогда, к моему удовольствию, между мамой и Шараховой возник очередной скандал, и их разговор содержал очень сильные выражения. Я схватил старую, не до конца заполненную тетрадь и стал записывать слово в слово, что слышал. Но никак за мамой и Шараховой не поспевал и в конце концов бросил это занятие с убеждением, что Александр Николаевич Островский умел не только лучше меня писать, но, главное, быстрее записывать.
«Чтоб ты сдох, проклятый!»
Расставшись с семьей Шкляревских, я ужасно скучал по тете Ане, Вите и бабушке, а к собственным родителям привыкнуть не мог. Общение с теткой было мне интересней, чем с матерью. Тетка считала меня способным и умным ребенком, говорила со мной, как со взрослым, уважительно. Мама же о моих способностях была невысокого мнения: «Многие родители думают, что их ребенок какой-то необыкновенный, и этим только портят его. А я знаю, что в моем сыне ничего особенного нет». Это развило во мне комплекс неполноценности и представление о своей полной никчемности, и, берясь за какое-то дело, я его оставлял, думая, что я не смогу, у меня не получится.
За всякие мелкие провинности мама меня ругала, а когда особенно сильно сердилась, могла сказать: «Чтоб ты сдох, проклятый!» Вообще подобные пожелания она часто адресовала отдельным людям, а часто и целой группе людей (иногда это были руководители партии и правительства): «Чтоб они все повздыхали!» Сама она к своим проклятиям серьезно не относилась, и много лет спустя любила со смехом рассказывать, как я в детстве отвечал ей тем же. Вспоминала, как я ей в трехлетнем возрасте сказал: «У, мама, сёты маты соб ты доха!» Что в переводе означало: «У, мама, к чертовой матери, чтоб ты сдохла!» Так же несерьезно относилась мама и к побоям, которым часто меня подвергала. Чуть что начинала драться. Причем не шлепала, а пускала в ход кулаки. Кулаки у нее были маленькие, тыкала она ими не в лицо, а в грудь, физической боли мне не причиняла, но я плакал, чувствуя себя оскорбленным. При этом я всегда сравнивал мать с тетей Аней, которая меня не только не била, но и голоса никогда не повышала. Она вообще считала битье детей преступлением. Наверное, благодаря тете Ане и я на своих детей никогда руку не поднимал…
Эмигрировав в Германию, я, среди прочего, очень удивлялся тому, что избиение детей там уголовно наказуемо.
Глава десятая. Минуты счастья

Немолодой красноармеец, бывший колхозник Семеныч, похожий на Максима Горького, питал ко мне определенную слабость, потому что, как он говорил, у него был сын такой же, как я, и еще две девчонки. Семеныч давал мне пострелять из незаряженной винтовки, показывая, как она устроена…
Уставные отношения
Мама ревновала меня к тете Ане, но после долгих уговоров поддалась на мои настойчивые просьбы и разрешила мне погостить у Шкляревских в Управленческом городке. В конце лета отец отвез меня к ним. Шкляревские по-прежнему жили на опушке леса в бараке, но теперь у них на пять человек была в нем отдельная комната с печкой. Я стал шестым членом семьи. Сначала было все хорошо. Шкляревские существовали сравнительно благополучно, а на случай неблагополучия держали кролика Васю с намерением съесть его, когда прижмет, или помиловать, если обойдется (примерно такие же утопические планы, как у моих родителей).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: