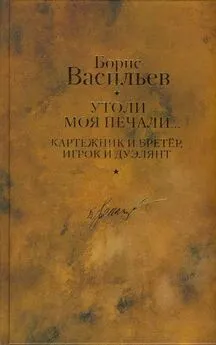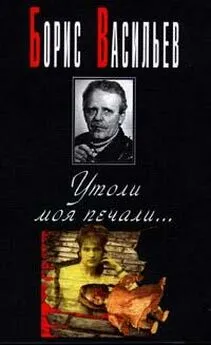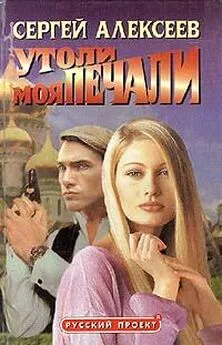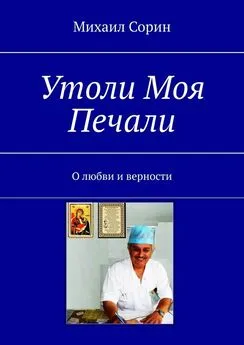Борис Васильев - Картежник и бретер, игрок и дуэлянт. Утоли моя печали
- Название:Картежник и бретер, игрок и дуэлянт. Утоли моя печали
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:АСТ, Астрель
- Год:2010
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Борис Васильев - Картежник и бретер, игрок и дуэлянт. Утоли моя печали краткое содержание
Век XIX стал главным героем саги Бориса Васильева о дворянском роде Олексиных. Роман "Картежник и бретер, игрок и дуэлянт" повествует о начале "золотого века": восстании декабристов, покорении Кавказа, Пушкине и его времени; "Утоли моя печали..." - о трагедии на Ходынском поле, с которой начался следующий век - XX.
Содержание:
Картежник и бретер, игрок и дуэлянт
Утоли моя печали
Картежник и бретер, игрок и дуэлянт. Утоли моя печали - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
И если это так, если я не ошибался в предположениях своих, то мне одно оставалось: отвести от Пушкина эту возможную ссору. На себя адрес ее переписать, но уберечь любезного моего приятеля от дороховского пистолета…
…Доктор пожаловал, и меня извлек из воспоминаний моих. В самый неподходящий момент извлек…
Во время перевязок да исследования раны к моей внутренней головной боли досадно внешняя прибавляется. Тут уж зубы покрепче стискивай, Сашка, стонать да вскрикивать дворянину только в беспамятстве дозволено…
— Зер гут, — бормочет врач наш Фридрих Карлович. — Очень карашо. Рана чиста, гной нет. Организм силу имеет достойно сопротивляться. Можно вставать очень немножко в один день.
Встал, а меня как мотанет в стенку.
— Постель, постель! — заволновался старательный немец. — Три день лежать, потом — вставать. Чуть-чуть. Третий день.
Признаться, я обрадовался. Я в прошлое хотел вернуться, додумать, помнится, что-то хотел…
…Сижу под орехом, вино из бутылки попиваю. По-гусарски, прямо из горлышка. И на девятом добром глотке вижу, как скачет кто-то прямо ко мне.
Время разглядеть было, и я — разглядывал. В английском костюме для верховой езды, с английским стеком в правой руке… И, еще лица не различив, понял: он, Дорохов. Секундант противной стороны. Только почему же он вдруг один сюда прискакал? Да еще заведомо раньше, вроде меня.
Подлетает, спешивается в десяти шагах. Привязывает лошадь и направляется ко мне, пощелкивая стеком по коротким голенищам. Вот, думаю, Сашка, тебе и все козыри в руки, ради чего ты и заявился сюда спозаранку…
— Bonjour («здравствуйте»), прапорщик, — говорит он, передо мною остановившись. — Отдыхаете на пленэре? Давно ли здесь и долго ли намерены предаваться сему удовольствию?
— Полагаю, сударь, что это — мое дело.
Иду прямо на рога: ссориться — так уж лучше с глазу на глаз, пока Пушкин не приехал. Но Дорохов неожиданно улыбается вполне добродушно и говорит:
— Ценю вашу независимость. Однако ж вынужден просить вас прекратить сие занятие.
Ну вот, думаю, и предлог появляется…
— Вынужден признаться, сударь, что мне здесь очень нравится, а посему прекращать сладостного моего удовольствия никакого желания не испытываю. Не желаете ли вина отхлебнуть?
И протягиваю ему бутылку, чтобы он окончательно рассвирепел. А он не свирепеет, подлец. Он преспокойно берет бутылку из моих рук и с наслаждением делает глоток.
— Благодарю, прекрасное вино.
И возвращает мне бутылку. От неожиданности я глупею, слова не могу вымолвить, а он преспокойно продолжает:
— С большим удовольствием прикончил бы с вами эту бутылку, прапорщик, и еще бы за полудюжиной съездил, да только обязанности мешают. Человек вы весьма воспитанный, а потому скажу без обиняков. Через полчаса на этом месте некие обидчивые молодые люди намерены выяснить свои отношения. Согласно дуэльному, безусловно вам известному, кодексу зрителей при сем выяснении быть не должно. Только это обстоятельство и дает мне право убедительно просить вас своевременно покинуть сие роковое место.
— Да что вы, сударь! — с восторженной улыбкой ответствую я. — И мечтать не смел, что когда-либо получу шанс ощутить себя древним римлянином. Попивать вино и любоваться ристалищем!.. Согласитесь, это куда забавнее и куда как пикантнее, нежели пресловутое panem et circenses («хлеба и зрелищ»).
Ну, думаю, теперь-то ты просто вынужден… А Дорохов улыбается и сам переходит на латынь:
— Dura lex, sed lex («закон суров, но это закон»), прапорщик. Но вы мне нравитесь: люблю людей cum grano salis («с крупинкой соли», то есть ироничных, язвительных). Выберем aurea mediocritas («золотую середину»). Вы ощутите себя древним римлянином на одной линии с доктором и каретами. По рукам, юный патриций?
И протягивает мне руку. И я ее пожимаю. А что мне оставалось делать, когда он этим, и признаться, довольно изящным, финтом атакующую рапиру из рук моих вышиб?.. А тут уж и пыль вдали показалась: дуэлянты спешили к месту поединка. Ладно, думаю, проиграл я свою первую партию вчистую, но робер-то из двух партий состоит, как должно Дорохову знать. Стало быть, и рипост (укол в фехтовании после взятой защиты) пока еще за мной.
Поначалу прятаться пришлось, как мальчишке в крапиве возле дамской купальни, чтоб Пушкин меня не заметил. Но его сразу же на место дуэли провели, и я вернулся к пожилому и очень недовольному всем происходящим доктору.
— Обстоятельства заставляют, сударь, противному для профессии моей капризу служить. Семья большая, жалованье грошовое, да и то не вовремя выдают…
В двадцати шести шагах им барьеры поставили, сабли в землю воткнув. Лица Александра Сергеевича я не разглядел, но по ужимкам его понял, что он в отличном настроении пребывает. И не то чтобы окончательно успокоился — дуэль есть дуэль, а пуля есть дура, — но как-то внутренне уверовал, что все обойдется.
Выстрелили они по сигналу почти одновременно и — оба стоят. И Пушкин, и хлыщ тот, ноготь ему сломавший. Ну, думаю, может, помирятся теперь.
Какое там!..
— С шестнадцати шагов! — орет Дорохов. — С шестнадцати, господа! Мы, как сторона оскорбленная…
О, Господи!.. Стали на шестнадцати, пальнули — и опять мимо. Тут доктор сорвался с места, к ним побежал:
— Все, господа, все!.. Либо миритесь немедля, либо дуэль переносите!..
Помирились. Пушкинский обидчик извинения принес, усадил Александра Сергеевича на радостях в свою карету и умчал праздновать мировую.
А ко мне Дорохов подошел. Злой и безулыбчивый. «Так, — обрадовался я. — Кажется, мой рипост…»
— Плохо стреляют, — говорю. — Ваша школа?
— А вы, прапорщик, попробуйте в щелкопера этого попасть. Мал, тощ и вертляв, как мартышка.
— И пробовать никогда не стану, — ядовито улыбаюсь, всю наглость свою призвав. — А вот в вас — с удовольствием. Вы что, обжора, что ли? Или от карточного стола оторваться уже невмоготу по тряпичности характера?
Вот тут-то он и взбеленился наконец. Покраснел, потом побелел, потом рот разинул, сказать что-то пытаясь. Но попытка была безрезультатной, и он сделал то, чего я и добивался. Отпустил мне пощечину и только тогда силы обрел заорать:
— Присылай секундантов, мальчишка!.. И любовницам своим скажи, чтоб загодя pleureuses («траурные нашивки на платьях») готовили!..
Свершилось! Или — почти свершилось, потому что мне необходимо было, чтобы не я его на дуэль вызвал, а он — меня. Тогда у меня и право первого выстрела, и чести больше. Ведь не кто-нибудь, а сам Руфин Иванович Дорохов к восемнадцатилетнему прапорщику снизошел, к барьеру его пригласив: представляете, какие разговоры по всему Кишиневу пойдут?..
И еще одно обстоятельство волей моею тогда двигало: не мог я дороховского крика забыть. В ушах он у меня звучал: «С шестнадцати шагов!..»
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: