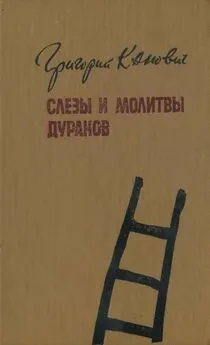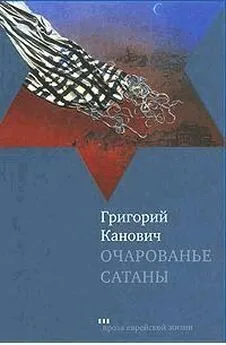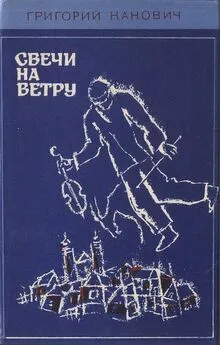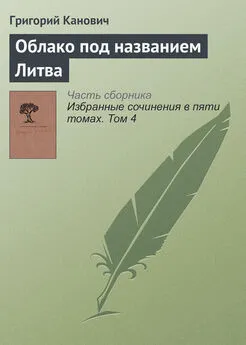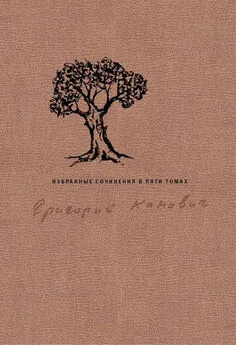Григорий Канович - Слезы и молитвы дураков
- Название:Слезы и молитвы дураков
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Vaga
- Год:1987
- Город:Вильнюс
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Григорий Канович - Слезы и молитвы дураков краткое содержание
Третья книга серии произведений Г. Кановича. Роман посвящен жизни небольшого литовского местечка в конце прошлого века, духовным поискам в условиях бесправного существования. В центре романа — трагический образ местечкового «пророка», заступника униженных и оскорбленных. Произведение отличается метафоричностью повествования, образностью, что придает роману притчевый характер.
Слезы и молитвы дураков - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
К дотлевающей москательно-скобяной лавке братьев Спиваков, неся на сдвинутых ладонях ермолку, как миску, семенил тот, кто назвал себя пасынком.
— Что это он несет? — забыв про вилы и лопату, полюбопытствовал Казимерас.
— Ума не приложу.
Пришельца заметил и Нафтали Спивак:
— Хаим! Хаим! Ты только посмотри, кто к нам идет! Ой, я умру со смеху!.. Это же тот, который у меня гвоздей на сорок копеек в долг взял… тот, который… Что это у него в руках?.. Сторица господа?..
— Какая сторица?
— Господь бог, сказал он, воздаст вам сторицей! — бушевал Нафтали.
— Не он ли лавку подпалил?
— Может, и он, — посеял дьявольское семя Нафтали.
— Ату его! Ату!
— Уряднику сдать!
— Нечистый!
Пришелец приближался к пожарищу. Шагов сто отделяло его от руин москательно-скобяной лавки, зиявшей уродливыми глазницами окон и обугленными провалами дверей.
— Вон!
— Пинком его в зад!
— Собак на него спустить! Собак!
Толпа искрилась ненавистью, гикала, шумела. Она вдруг лишилась глаз и превратилась в одну дремучую бороду, в один разинутый рот, изрыгающий проклятья. Праздник мести и безнаказанности захлестнул ее, как паводок, и расправа стала лакомством, таким же желанным, как пирог с изюмом и корицей.
Осанна им, осанна долгожданному суду и возмездию! Осанна погрому!.. И не важно, над кем его учинят — над колдуном или бродягой, над посланцем неба или ада, над христианином или евреем. Пинков! Крови! Стонов! Униженная, трепещущая весь год, всю жизнь перед каким-нибудь уездным Нуйкиным, склоняющая с утра до вечера перед каким-нибудь местечковым урядником или лесоторговцем выю, толпа получила наконец сладостную, ни с чем не сравнимую возможность возвыситься над собственным трепетом, над собственным дерьмом, над собственным трусливым унижением. Сейчас каждый из толпы, пусть он и сам трижды несчастен, покажет, на что он горазд: будет пинать каналью, спускать на него собак, будет бить, топтать, рвать в клочья и обвинять колдуна во всех смертных грехах — в пожарах и самоубийствах, в своей бедности и тупости, в крушениях и несбывшихся мечтаниях. Ей, толпе, нужны сейчас не вилы, не лопаты, не хлеб, не соль, не ложь, не правда, а виновный!.. Осанна виновному, осанна!
— Намять ему бока!
— Вон из местечка!
С весело позвякивающими ведрами, с новехонькими вилами и лопатами, отданными ей сердобольными погорельцами, толпа двинулась навстречу пришельцу, несшему на сдвинутых ладонях ермолку, как миску.
— На вилы его!
— В деготь!
— В Неман!
До пожарища и двадцати пяти шагов не было.
— Стойте! — вдруг закричал ночной сторож Рахмиэл. — Назад! Что вы делаете, евреи? Он — мой сын… Арон!.. Он вернулся из рекрутов… Реб Ешуа, — обратился он к корчмарю. — Скажите им, пока не поздно. Реб Хаим! Вы же помните моего мальца!.. В картузе таком… с козыречком!.. Остановите их! Реб Нафтали!
Нафтали Спивак повернул на крик голову и зашагал вокруг своей груды — ать-два, ать-два, и не было на свете рекрутчины тяжелей, чем эта.
— Казимерас, — поглядывая то на приближающегося пришельца, то на толпу, бредущую ему навстречу, взмолился Рахмиэл. — Ты почему молчишь?
— Сын, — прошептал литовец.
— Но почему шепотом? Почему шепотом? Доколе же мы будем правду шепотом говорить?
— Но это ж неправда, — возразил Казимерас.
— Правда, — отрубил Рахмиэл. — То, что спасает человека, правда, то, что губит — ложь.
— Ха-ха-ха!
— Хи-хи-хи!
— Ой! — застонала вдруг толпа от хохота. — Ой, умора!
Она обступила пришельца, как скомороха в праздник-пурим, и, стуча о днища дармовых ведер, как о натянутые шкуры барабанов, по-капельмейстерски размахивая вилами, вскинув лопаты, как мушкеты, зашагала назад, к пожарищу.
— Ха-ха-ха!
— Мамочка дорогая!.. Такого олуха свет не видывал!
— Потеха!
Пришелец, казалось, не замечал толпы. Он был занят одним — во что бы то ни стало донести до тлеющей лавки то, над чем все вокруг смеялись. Собственная жизнь как будто не интересовала его, а если и интересовала, то только в той мере, в какой была связана с тем, что он нес.
— Реб Хаим!
— Реб Нафтали!
— Реб Ешуа!..
— Сюда! Сюда! Вы только посмотрите! Получите миллион удовольствий!..
— Что вы ржете, как лошади? — возмутился Хаим.
— Что там у него в ермолке? — настороженно спросил Ешуа.
— Вода!
— Обыкновенная вода!
— Из Немана!
— Черта с два! Из лужи!
— От нее за версту лягушками разит!
— А он, олух, твердит: волшебная… из Иордана…
— Богохульник!
— Мыши у него в голове совокупляются!
— Гнать его взашей, и вся недолга!
— Явился к шапочному разбору!..
— Кому нужны его вонючие капли? — наперебой орали бородатые евреи.
— Ша! Ша! — рявкнул Хаим Спивак. — Если человек пришел хотя бы с одной каплей, грех его гнать с пожара.
— Но он же сам лавку поджег!
— Так говорил реб Нафтали!
— Придуривается мерзавец!
— Это Арон…
— Какой еще Арон?
— Которого Фрадкин вместо своего Зелика сдал!
— Нашелся заступник!
— Ша! Ша! — снова рявкнул Спивак. — Пусть он подойдет. Расступитесь!
Толпа расступилась, и пришелец с ермолкой на сдвинутых ладонях шагнул к сгоревшей лавке.
Нафтали Спивак, расхаживавший вокруг своей груды, не сводил с него глаз и машинально, беспамятливо приговаривал:
— Ой, я умру со смеху!..
Неведомо откуда, видно, с соседнего двора, через канаву на пепелище забрела коза с козленочком. Она трясла бородой, поворачивала мудрую материнскую голову, назидательно мекала, а козленок, легкий, прыгучий как мячик пялился на мир своими простодушными счастливыми глазами и все ему вокруг нравилось: и люди, и пепел, и небо, и конечно же, мать с седой бородой и сморщенным выменем.
Понравился ему и звук, короткий, трескучий, как хворост, но облачка порохового дыма, повисшего гусиным пером в воздухе, козленок не увидел.
Когда пришелец поднял его на руки, козленок был мертв.
Только глаза его были такими же простодушными и счастливыми, как прежде.
— Господи! — воскликнул корчмарь Ешуа и бросился домой.
Коза-мать ничего не поняла, тыкалась мудрой головой в пепел, пощипывала травку и изредка поглядывала на своего козленочка, парившего на чужих руках в небе. Для коз небо начинается с бедра человеческого.
Между первым и вторым звуком был крохотный и скорбный промежуток.
Пришелец подпрыгнул, словно взмыл ввысь, согнулся, прижал козленка к простреленному животу и, не выпуская белый ворсистый кожушок из рук, грохнулся на землю рядом с оброненной ермолкой.
— Убили!..
— Не может быть!..
— Кто стрелял?
— Откуда?
Толпа хлынула к нему, и вместе со всеми, сбросив перекинутые через плечо башмаки, пятьдесят лет безрадостной и беспросветной жизни, ковенский тракт, чужие свадьбы и свои могилы, бежал ночной сторож Рахмиэл, и в целом мире не было таких здоровых, таких крепких, таких быстрых ног, как у него, даже у лани… даже у шакала…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: