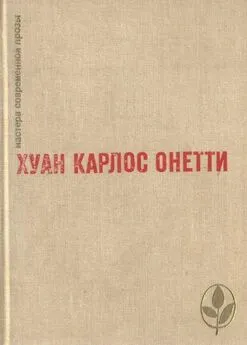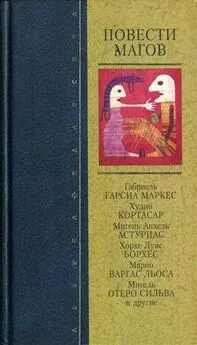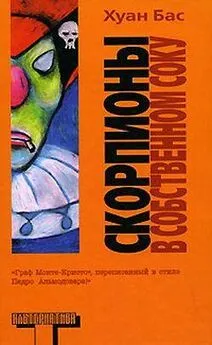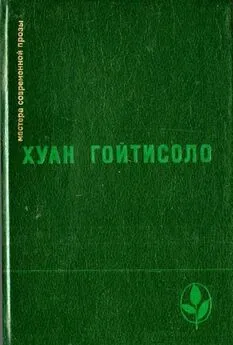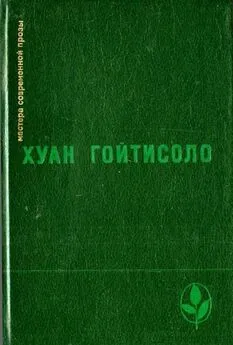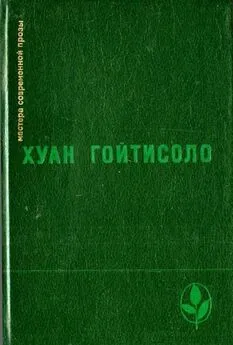Хуан Онетти - Избранное
- Название:Избранное
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Радуга
- Год:1983
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Хуан Онетти - Избранное краткое содержание
Для творчества крупнейшего писателя современной Латинской Америки, вынужденного покинуть родину из-за преследований диктатуры, характерен тонкий психологизм, высокий этический пафос. Его повести и рассказы, уже издававшиеся в СССР, вызвали большой интерес.
В этот сборник наряду с лучшими новеллами входят романы «Верфь» и «Короткая жизнь», в которых автор размышляет об одиночестве человека, о невозможности осуществления его мечты в современном буржуазном обществе.
Все произведения, вошедшие в настоящий сборник, опубликованы на языке оригинала до 1973 г.
Избранное - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— Мами старая, — тихо сказала она, и я понял, что она это часто говорит, и вздыхает, и сокрушенно качает головой.
Штейн серьезно склонился к ней и поцеловал.
— Выпьем по рюмочке, моя дорогая. И Браузен с нами. Ты можешь позвонить Гертруде, что задержишься?
— Могу, — сказал я и снова стал думать о сотне песо, они мне были нужны. — Но звонить не надо, она у матери, в Темперлее.
Я мог немного выпить, и забыть спор о деньгах, и попросить сто песо.
Мириам выбрала столик и пошла в уборную, ступая несмело и тяжко, подняв голову, держа только что зажженную сигарету.
— Ты ее не знал, а? — спросил он меня, улыбаясь официанту. — Нет, ничего не закажем, пока наша дама не выберет. Я тебе много про нее говорил. Вот она, Мами. Стара, конечно, да и как опишешь, какая она была? Самая зверская, самая дикая, самая умная из всех женщин. Ты поверь, я любил ее как мать — с допустимыми поправками, ясное дело. Я тебе говорил, что она служила в кабаре, а мне было двадцать лет, и мы сбежали в Европу.
— Да, и не раз, — сказал я. Мириам шла обратно к стойке, без сигареты, держа перед самым лицом открытую пудреницу, и я заторопился. — Ты не одолжишь мне сотню на несколько дней?
— Конечно, одолжу, — отвечал он. — Дать сейчас?
— Все равно.
— Подождешь до завтра? А может, мне чек обменяют. И сотню дам, и больше. Но сегодня вечер особенный, мы тут с тобой и с Мами. Мне хочется кутить, понимаешь, сорить деньгами. А Мами нестарая и не уродина, она у меня красотка. — Он встал, отодвинул ей стул. — Мами, я не решился тебе заказать джин с сахаром. Женщины меняются, то есть женские вкусы. Я как раз говорил Браузену, что ты мне верна всю жизнь. Странная верность, с дырочками, но как без них дышать?
Она кокетничала, кивала, кидала мне дружеские, немного виноватые взгляды, вздыхала по старым победам и потерям, быстро зажгла сигарету, опираясь локтями о стол, чтобы никто не видел, как у нее дрожат руки.
Я ждал в пустом зале, пока Штейн кончит врать и препираться со старым Маклеодом, когда Мириам постучалась в стеклянную дверь и сразу вошла, стараясь идти прямо. Важно кивая и улыбаясь, она спросила, где Штейн.
— Наверное, сейчас выйдет, — сказал я. — Я тоже его жду.
— Спасибо. Понимаете, мы не условились. Просто должны были встретиться внизу в полседьмого, и я думала, он ушел. Ведь уже поздно… Спасибо. На улице столько народу. Ждешь, все толкаются… Спасибо.
Сесть она отказалась и, походив взад-вперед, грозно поглядев из-под тяжелых век на пестревшие в полумгле рекламы — славные творения Маклеода и Штейна, иногда с моим текстом, — оперлась о стойку и закурила. Наблюдая за ней, я увидел, что она улыбнулась и закивала сама себе в ответ на какую-то мысль, но не сказала ничего. Сигарету она держала, не сгибая пальцев. Кто-то засмеялся за освещенными стеклами; по залу пролетела и осталась смиренная прохлада, и толстую старую женщину, курившую в полумгле, стал окутывать печальный сюжет. Я увидел, как сумрак спускается в зал, не скрывая ее и не касаясь. Значит, и самая глухая тьма бессильна перед нелепыми цветами на шляпке и перед мягкой белизной пухлого детского лица.
Прохаживаясь взад-вперед мимо рекламы, на которой смеялась, пила, отдыхала купальная девица, я вспомнил бурные и настойчивые исповеди Штейна и представил себе, как она, совсем молодая, даже девочка, обегает остановки такси, а красит ее, пудрит, посылает собственная мать (для меня — морда в муке и запах жареной рыбы). Я знал, как они со Штейном познакомились на танцах, когда ему было двадцать лет. Знал я и то, что они сошлись в тот же вечер; что они сбежали с танцев, держась за руки и шепча друг другу слова, которые обретали неясный и непотребный смысл; что наконец они прожили целую неделю в гостинице, в горах Тигре. Неделю, которая кончилась в субботу, под вечер, когда Штейн спросил счет, потянулся как был, голый, и сказал, икая от смеха: «А знаешь, моя милая, у меня нет ни сентаво».
Я увидел все это и вспомнил, как она подошла к постели, из которой были видны вода, и гребной клуб, и яхты, и лодки, и грузовые суда, возившие с севера фрукты; подошла и посмотрела на голого мальчишку. Опершись о спинку кровати еще худой рукой, она взглянула гневно, и скривила красные губы, и начала было браниться, но взгляд ее стал задумчивым, а там и печальным. И она заплатила по счету, и платила до того дня, когда — это было тоже под вечер — Штейн явился в квартирку на площади Конгресса, и разбудил ее поцелуем, и подождал, улыбаясь, пока она умоется. Наполнил два бокала, отпил, все поджидая, прошелся по комнате, глядя в окошко на машины и на толпу. Мириам старше его на пятнадцать лет, но тогда она еще не состарилась. Он сказал не сразу, зачем пришел; сперва протянул ей бокал, посадил ее к себе на колени, и еще повел к кровати, и дождался улыбки и вздоха, и тогда сказал, что уходит. Мириам подняла брови, недоверчиво открыла рот и легко села в постели.
— Меня бросаешь? Меня? — спросила, удивляясь и смеясь, крупная, отяжелевшая женщина, курившая теперь по ту сторону стойки, осыпая пеплом платье.
Он что-то говорил, убеждал, размахивал руками; она не мешала, а когда он выговорился вконец и с горя стал приводить нравственные доводы, она кончила одеваться и сказала, не глядя на него, самые прекрасные слова, какие ему даровала жизнь:
— Мы отплываем в Париж первым пароходом. Ты знаешь, откуда у меня деньги. Сейчас схожу вниз, закажу обед и бутылочку праздника ради.
Черный шелк ее юбки рассказывал мне, как смешно терзался Штейн в тот вечер, пятнадцать лет назад, когда врал себе, как убеждал, оправдывал себя перед собою и перед людьми, и особенно перед мертвецами, которые покоились где-то в австрийском местечке и, казалось ему, там, на кладбище, стали еще строже.
После путешествия, после нелепицы путаных объяснений и неожиданных тонкостей Штейн уже не мог оправдаться перед собственным прошлым, которое тоже казалось ему суровым; оставалось одно: «Oh, la Butte Montmartre!», [9] «Ах, Монмартр!» (фр.).
произнесенное с улыбкой, которая, как он считал, выражает невыразимое. Оставались восторги перед Арагоном и «Ce soir», [10] «Сегодня вечером» (фр.).
довольно тусклое «Вот это жизнь!» да избитые анекдоты неопределенной национальности. Ничего не объясняя и не понимая, что тут объяснять, Мириам вернулась через два года после Штейна. Она нашла его и предложила ему полкровати, обед и ужин, вино и сигареты, немножко карманных денег и время от времени — совет и насмешливую, сильную опору, которой он, должно быть, не замечал. И если он восклицал в ресторане «Oh, la Butte Montmartre!» и пытался погладить ее руку, намекая улыбкой и прищуренным глазом на какие-то неведомые ей наслаждения былой поры, то сразу становился жалким. Перед ней, отяжелевшей, присмиревшей, тихой с самого своего приезда, перед Мириам, Мами. А она, немало выпив, вспоминала с доверчивой и мягкой улыбкой все тот же Монмартр или нежный звон колоколов у Сен-Жан-де-Брик; вспоминала свою судьбу, которую ни за что на свете не променяла бы на другую.
Интервал:
Закладка: