Уильям Стайрон - Признания Ната Тернера
- Название:Признания Ната Тернера
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Уильям Стайрон - Признания Ната Тернера краткое содержание
Самый популярный роман Уильяма Стайрона, который, с одной стороны, принес целую коллекцию престижных призов, а с другой - вызвал шквал гневных откликов прессы и критиков, обвинявших автора в ретроградстве и расизме.
Причиной тому послужила неожиданная оценка Стайроном знаменитого восстания рабов 1831 года. Это событие становится лишь обрамлением завораживающе красивой истории о страстной, безжалостной и безнадежной любви предводителя восстания к белой девушке...
Признания Ната Тернера - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Примерно в двух сотнях ярдов от нашей с матерью комнаты, в конце дорожки, проходящей через выпас, стоит уборная на десять дыр, предназначенная для дворни и работников лесопилки, чьи хижины находятся внутри огороженной усадьбы. Прочно сколоченная из дуба, она поставлена на крутом краю огромного, поросшего лесом оврага и разделена дощатой перегородкой надвое: пять дыр для женщин и маленьких детей, пять для мужчин. Вследствие того, что от полей и лесопилки господский дом отделен и все, что делают дворовые негры, происходит в этом замкнутом мирке, эта уборная — одно из немногих мест, где моя повседневная жизнь пересекается с жизнями тех негров, о ком я уже приучен думать как о людях низшего разряда — отребье, сброд, хамье неотесанное, почти дикари. Потому что даже сейчас, мальчишкой, я уже презираю и чураюсь их, брезгаю этой черной шушерой, обитающей за пределами ближнего окружения господского дома — этим безликим и безымянным быдлом, которое на рассвете исчезает во чреве лесопилки или в полях за лесом, а на закате возвращается вереницей теней в свои хижины, как куры на обрыдлый, но привычный насест. В основном такое к ним отношение я перенял от матери. Ей казалось кошмаром, что при всем удобстве ее сравнительно благополучной жизни она должна регулярно навещать пресловутый край оврага, где приходится якшаться с этими горластыми, со сбродом, который настолько ниже ее.
Безобразие, — возмущенно жалуется она Фифочке. — Мы же при доме, мы люди другого уровня! А у нас отхожего места отдельного нет, стыд, позор! Эти пахари, кукурузники эти — они же форменные скоты. Детям позволяют на сиденья писать, и ни один даже крышку за собой не закроет, вонища до небес. Я бы лучше со свиньей в уборной рядом села, чем с этими хабалками кукурузными! Мы-то, которые при доме, мы ведь приличные!
Столь же разборчивый, я избегаю утренней толчеи, приучив кишечник откладывать все позывы на более позднее время, когда можно рассчитывать хоть на какое-то все-таки уединение. Вокруг двери в мужскую половину (куда я вхож с пятилетнего возраста) земля утоптана и превратилась в черную глинистую плешь, до блеска отполированную бесчисленными посетителями, обутыми и босыми, и каждый день на ней новый орнамент, в котором ломаные линии каблуков перемежаются вкрадчивыми овалами пяток и босых пальцев. Дверь ни крюка, ни щеколды не имеет (как все двери во все места, куда ходят негры), это задумано специально, чтобы негры зря не болтались и не прятались; на кожаных петлях она легко распахивается наружу, при этом те, кто присел напротив, оказываются на виду, хотя в какой-то мере их скрывает царящий внутри полумрак, который был бы гуще, если бы не солнечные стрелы в щелях между досками. Для меня здешний запах привычен — смрадный, едкий, дуплетом бьющий в нос и в рот, удушающий как удавка, — но фекальная составляющая в нем частично приглушена негашеной известью, так что, по мне, он не столь отвратен, сколь привязчив — преследует потом сладковатой такой отдушкой, будто ты в тухлой болотине искупался. Я поднимаю одну из овальных крышек и сажусь на сосновую доску над дырой. Мой зад и бедра снизу заливает свет со склона оврага, я бросаю взгляд вниз на обширное бурое пятно, припорошенное белой негашенкой. Сижу, сижу, минуту за минутой, блаженствуя в покое прохладного утра. Где-то в лесу заводит песнь пересмешник; она журчит, струится ручейком, стихает, возникает снова, чистая и неиссле-димая, течет сквозь переплетения винограда и жимолости, забирается под деревья, в тень, в прохладу, в гущу плюща и папоротника. А внутри, в простреленном солнцем сумраке, я неторопливо, с приятностью облегчаюсь, одновременно разглядывая паука размером с ягоду ежевики, плетущего в углу потолка толстую сеть, которая при этом содрогается, растягивается и трясется, млечно-белая в световом блике. Тут сквозь стены уборной я слышу отдаленный крик — это с крыльца господского дома меня призывает мать.
Натаниэль, — кричит она, — Эй, Натаниэль! Натаниэль! Негодный мальчишка! Ну-ка быстро сюда иди!
Что ж, я валяю дурака слишком долго, а ей надо, чтобы я был под рукой, носил воду на кухню.
Натаниэль Тернер! До-мой!
Благостное настроение подпорчено, утренний ритуал близится к концу. Сую руку в порванный мешок на полу — в джутовый куль, полный стержней от кукурузных початков...
Вдруг что-то меня снизу начинает жечь; зад, яйца жжет огнем, я с воплем подпрыгиваю, хватаясь за свои опаленные задние части, а из дыры вплывает грязно-белый клуб дыма.
Ай! Ай! Проклятье! — вскрикиваю я, но главным образом от неожиданности — неожиданности и обиды. Потому что не успел я это выкрикнуть, боли уже, считай, почти что нет, я заглядываю вниз, в дыру, и обнаруживаю там ухмыляющуюся светло-коричневую физиономию мальчишки ровесника. Он чуть в стороне, стоит на краю не просыхающей на дне оврага слякотной лужи, и в руке у него горящая головня. Другой рукой он в корчах веселья хватается за живот и хохочет — заливисто, громко, неудержимо. — Вот, догоню, Уош, сукин ты сын! — угрожающе выкрикиваю я. — Догоню, душу черномазую выну! — Но ярость моя напрасна, Уош все равно хохочет, скорчившись в кустах жимолости. Это он уже третий раз за весну меня подлавливает, и мне некого винить за такое мое унижение, кроме себя самого.
ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ МИСТЕРА ГАДМЕНА
предлагается публике в легких для чтения беседах между мистером Мудристером & мистером Понимайстером
Мр. Мудристер. Доброго утречка, дорогой соседушка, мистер Понимайстер; что-то вы нынче в столь ранний час гуляете? Да и лица на вас нет, уж не случилось ли что? Не угнали ли ваших мулов? Скажите мне, что с вами?
Мр. Понимайстер. Уважаемый сэр, и вам доброго утречка! Благодарствую, ничего у меня покамест не угнали, но тем не менее вы правильно обо мне подумали, ибо у меня, как вы говорите, заботится сердце, сердце волнуется, понеже времена ныне неблагонравны вельми. А вы, сэр, как знают все наши соседи, человек проницательный, рассудительный, уж будьте любезны, прошу вас, скажите, что вы об этом думаете?
Мр. Муд. Что ж, думаю, что времена теперь действительно, как вы о них сказали, вельми неблагонравны суть, и таковыми же останутся, если люди не станут лучше; ибо дурные люди делают дурные времена, сэр; когда же, паче чаяния, люди изменятся, настанут и иные времена. Пока грех в силе, пока столь многие ищут вкушать от плодов его, глупо ждать, что придут благие дни...
У негритенка жизнь неописуемо скучна. Но за один лишь месяц, летом, когда мне было девять или десять лет, со мной произошли два странных события, и одно принесло мне горчайшее страдание, а другое я воспринял как провозвестие радости.
Август, утро в разгаре, жарко и душно, воздуха не хватает настолько, что пыльные деревья вдоль края опушки безжизненно и недвижимо скукожились, и вжиканье лесопилки кажется смазанным, нечетким, оно словно еле пробивается сквозь дрожащие, как студень, волны жары, под которыми, исходя паром, лежит земля. Высоко в синем небе над болотами, косо распластанные, кружат десятки канюков: то летят безо всяких усилий, то вдруг срываются камнем вниз, а я время от времени поднимаю взгляд и слежу за их угрюмым продвижением по небу. Сижу на корточках в тени пристройки об одной маленькой смежной с кухней комнатенке, где мы с матерью живем. С кухни духовито и резко потягивает вареной капустой; полуденный обед когда еще будет, а у меня уже от голода живот подвело. Хотя нельзя сказать, чтоб я был истощен (быть сыном поварихи, как непрестанно твердит моя мать, “для негритенка самый счастливый удел на свете”), однако я, похоже, все время на грани голода. Надо мной кухонное окно, на подоконнике в ряд лежат дыни, шесть штук желтых шаров, они там в тенечке “доходят”, недоступные, как золотые слитки. Я вперил в них тяжкий взгляд, в нем такая алчба, аж до слез, но я сознаю, что, стоит только к одной из них прикоснуться, и я погиб, причем конец мой будет ужасен. Однажды я уже стащил горшок с простоквашей, и мать задала мне такую трепку, что я потом не знал, каким местом на стул присесть.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
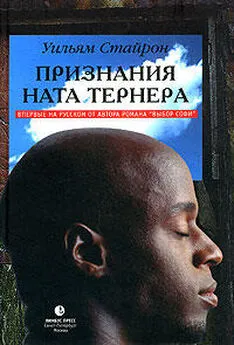
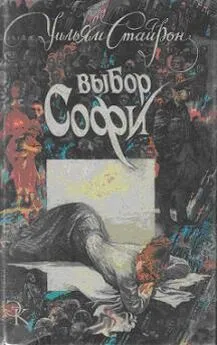



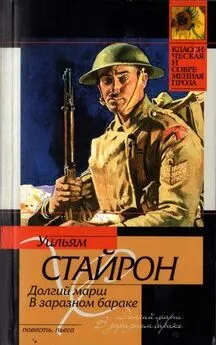

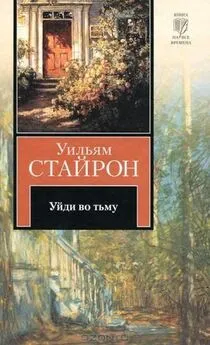

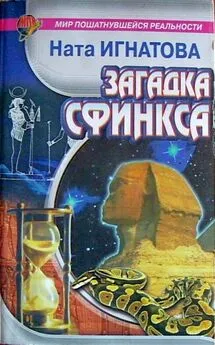
![Уильям Стайрон - Выбор Софи [litres]](/books/1073216/uilyam-stajron-vybor-sofi-litres.webp)