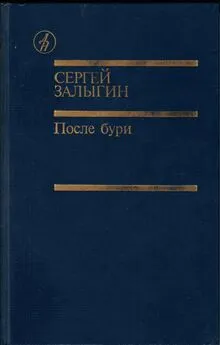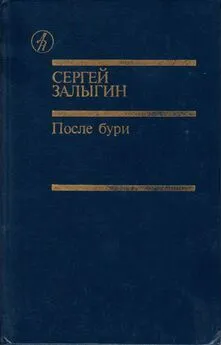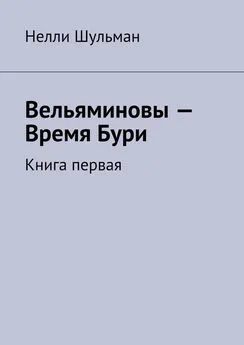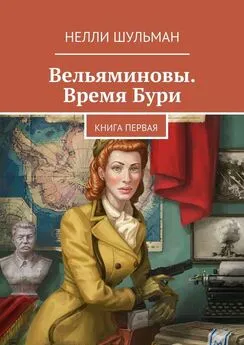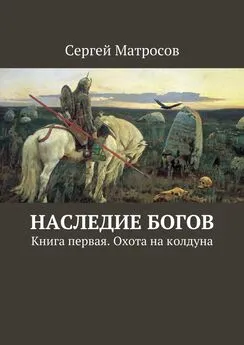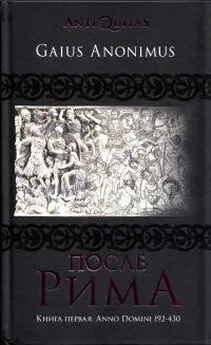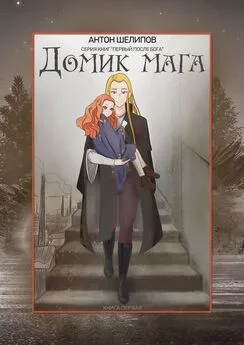СЕРГЕЙ ЗАЛЫГИН - После бури. Книга первая
- Название:После бури. Книга первая
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Известия
- Год:1988
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
СЕРГЕЙ ЗАЛЫГИН - После бури. Книга первая краткое содержание
Главный герой романа лауреата Государственной премии СССР Сергея Залыгина — Петр Васильевич (он же Николаевич) Корнилов скрывает и свое подлинное имя, и свое прошлое офицера белой армии. Время действия — 1921 — 1930 гг.
Показывая героя в совершенно новой для него человеческой среде, новой общественной обстановке, автор делает его свидетелем целого ряда событий исторического значения, дает обширную панораму жизни сибирского края того времени.
После бури. Книга первая - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Кроме того...
Кроме того, приятно, поди-ка, будет УУР, если Корнилов убежит! «Убеги, Корнилов, убеги, а мы тебя поймаем, мы тебя доставим в город Аул по этапу, мы тебя спросим: отчего убежал?» Да так оно, кажется, и было — не провоцировал ли УУР побег? Какая искренность, какие разговоры, какие книжечки — Боря и Толя! — какие свободы: хочешь, допрос будет сегодня, а хочешь, так и завтра.
Потом «Приказ № 1» коменданта города Улаганска от 14.XII.1919 г.
А вдруг... А вдруг УУР очень хотел, чтобы Корнилов убежал с его глаз долой, хотел его выручить, спасти? Ну кто бы это оставил его с «Приказом № 1» наедине и не арестовал бы, если бы не хотел, чтобы подследственный скрылся?
Как же было-то? На самом деле?
Корнилов позавидовал удачливому беглецу. Ну, конечно, вот сейчас, вот в эту минуту, где-нибудь, в какой-нибудь стране кто-то обязательно выламывает решетку тюремной камеры. Кто-то ее уже выломал. Кто-то, крадучись и прыгая, минует тюремную стену.
Кто-то — на свободе!
И никогда-никогда не будет пойман, а будет отныне жить той самой жизнью, которой хотел жить.
Познакомиться бы со счастливчиком, а?! Поздороваться бы. Подлец, поди-ка, убийца, а ведь вызывает чувство зависти — ему-то можно, он-то смог, а — ты?
Вот бы удивился тот беглец: у Корнилова ни решетки, ни тюрьмы, у него невероятно темная ночь под рукой, а не бежит! «Не бежишь? Ну и дурак, пожалеешь не раз! Посадят в настоящую тюрягу, в угловую камеру второго этажа, в бывшую монашескую келью, оттуда будешь рваться на свободу и замышлять побег — вот тогда и поймешь, каким ты в ту ночь, свободную своей темнотой, своей бездонностью, был ничтожным и глупым человеком! Ну — торопись, ведь рана на голове зажила, а за ночь ты тридцать верст отмахаешь! Торопись, чтобы не проклинать себя, когда будешь в тюрьме!»
Корнилов пошарил в карманах пиджака, ничего не нашел, сходил в избу, принес два предмета: спичек коробок и медный пятак.
С большого пальца левой руки он подбросил пятак высоко вверх, прислушался, как упал он на землю.
Зажег спичку. Пришлось и еще зажигать огонька, прежде чем обнаружилась в темноте судьба — пятачок лежал «орлом» вверх, то есть вверх лежали серп и молот, Земной шар, пучки колосьев и показывали: бежать!
Что с собой?
Бритву с собой, полотенце, мыло, зубную щетку — с собой! Порошок-то есть ли зубной? Белья две пары...
Но тут вот какое дело, и это уже всегда, это неизбежно — чуть еще раз засомневался, чуть зазевался, чуть замешкался в исполнении предначертаний «орла», как в ту же минуту вместо твоего собственного «я», судьба которого в эту минуту решается, появляется умненькое такое «мы».
Является, и уже не от себя, не от собственного «я» ты начинаешь думать и рассуждать, нет, ты начинаешь думать за «мы»: что и как должны думать мы, человечество, почему мы должны думать именно так, а не иначе и что из наших раздумий-размышлений следует? Из наших?
«Германия-то,— думал Корнилов,— Германия-то, со всею очевидностью проиграв войну, погибая, обливаясь кровью, все еще дралась, все еще хотела, если уж не воевать, то обязательно еще убивать кого-то, убивать, убивать!»
И дальше, и дальше:
Да если бы кайзер Вильгельм Второй послушался своих генералов, принца Макса Баденского послушался и заключил мир хотя бы на год раньше, сколько бы миллионов жизней сохранилось на земле? От каких страданий и сама-то Германия была бы освобождена? И сколько бы в Европе и на других континентах не состоялось бы революций и гражданских войн, которые нынче состоялись?
Но Вильгельм Второй воевал и воевал, убивал и убивал, и ведь даже после этого его никто не судил всерьез, поговорило правительство Веймарской республики вокруг да около, потом испугалось собственных разговоров и вот, слышно, возмещает кайзеру убытки в размере 125 миллионов марок по довоенному курсу да еще и дополнительно выплачивает 15 миллионов пенсиона! Налоги с бывших солдатиков, которых не успел добить кайзер, взымает новая республика и посылает кайзеру за границу — как хорошо, как патриотично и благородно!
Вот что вдруг припомнило, вот что рассудило вдруг «мы», а почему? По какому же поводу?
Да потому что кайзера Вильгельма Второго оно сравнило с вдовой Дуськой, убитой в драке веревочников. Ну как же: Дуська тоже ведь дралась бессмысленно, уже погибая, истекая кровью, стоя на коленях, она все еще размахивала обломком весла, обязательно хотела кого-нибудь если уж не убить, так хотя бы поранить.
Может, она была права? Почему Вильгельму это можно, а ей, Дуське, нельзя?
И дальше, и дальше: Дуська-то, вдова, она, если бы осталась живой, если бы ее потащили в суд, разве она отрицала бы свою вину? Никогда
И Вильгельм-то-Дуська-Второй — разве когда-нибудь повинился перед кем-нибудь?
Он — герой! Он, герой, не сомневался, бежать или не бежать из своей собственной империи, он такой же вот, кажется, темной ночью, с зонтиком в руках, постучался в домик голландского обывателя — Корнилов слыхал, будто бы к аптекарю,— да и сидит за границей по сей день, пишет геройские свои мемуары и даже не помнит, как, объявив в 14-м году мобилизацию, перепугался до смерти, хотел ее отменить, но генералы генерального штаба не позволили, объяснили его величеству, что мобилизация — дело необратимое.
«А это все — к чему?» — с удивлением спросил Корнилов у «мы».
«А к тому, дорогой, что если миллионы немцев взяли под свою защиту Вильгельма, так ты, Корнилов, совершенно не виноват в том, что взял под защиту вдову Дуську. Так устроено в мире, а ты — ни при чем».
«Верно, верно! — подхватил мысль Корнилов и даже развил ее: — Если уж немцы сделали из Вильгельма героя, то как бы они и еще не натворили каких-нибудь дел. В том же духе...»
Конечно, Корнилов нынче подозревал, что великие философы мира сего, так хорошо, так умно размышлявшие по самым разным поводам от лица «мы», потому только и существовали, что умели очень ловко отнекиваться от своего собственного «я».
Мысль, которую создает «мы», она ведь беспредельна...
«Беспредельна?! » — усмехнулось «мы».— А ну-ка, ну-ка — войди в эту беспредельность! На несколько шагов? Войди — и тотчас наткнешься на какую-то преграду, дальше которой для мысли хода нет! И справа, и слева, и сверху, и снизу — повсюду пограничные знаки, и перешагнуть их — ни-ни! Но какую геометрическую фигуру они ограничивают — треугольник ли, круг ли, квадрат ли — это неизвестно. Какими линиями ограничивают — прямыми, ломаными, синусоидами — неизвестно. Какой ограничивают объем и пространство — понять никак нельзя, невозможно. Крохотный это и вонючий закуток или в огромное ты заключен пространство — ты не знаешь. И все дело в тебе самом: хочешь — считай, что находишься в вонючем закутке, хочешь — думай, что твое пространство это нечто великое и величественное, достойное гордости и благодарности. Выбирай и радуйся! Радуйся и выбирай, потому что — свобода выбора! Другой свободы у тебя нет и не будет».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: