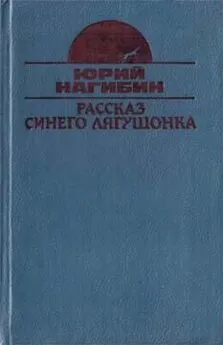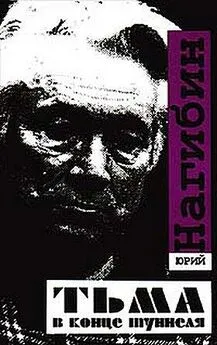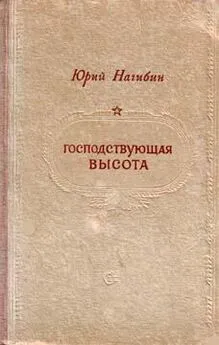Юрий Нагибин - Постоянный подписчик
- Название:Постоянный подписчик
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:РИО МГПО Мосгорпечать
- Год:1991
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Юрий Нагибин - Постоянный подписчик краткое содержание
Постоянный подписчик - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Рентгенолог наполнил стаканы, лишь Фаина Семеновна осталась верна сухарику.
— За прекрасных женщин! — объявил он.
— Где ты их видел? — в своей кроткой манере спросила Фаина Семеновна.
Как обычно, вторая порция любой отравы идет легче — вырабатывается какое-то защитное средство, противоядие. Только Гликерия Петровна, сменившая напиток и тем демобилизовавшая организм, опять корчилась и плевалась.
— Может, все-таки к сухарику вернетесь? — спросил Рентгенолог.
Гликерия Петровна издала утробно-горловой звук и замахала руками:
— Чего под руку говоришь? Еще этот не улегся…
Шумел камыш, деревья гнулись,
А ночка темная была!.. —
теплой волной прилетело из глубины леса, и мне вспомнилось, что этой песней открывались гулянки мощной ресторанной семьи Зубцовых, занявших комнату деда после его нежданной смерти. Крепкий, литой, жизнелюбивый и еще не старый человек был сломлен арестом сыновей. Он скончался от сердечного удара, как называли инфаркт в те медицински наивные времена.
А вдалеке, там, где синело вешнее озерко с синими лягушками, разливался бессмертный «Хаз-Булат». И вдруг неподалеку неуверенно всплыло:
Бродяга к Байкалу подходит,
Рыбацкую лодку берет,
Унылую песню заводит,
Про родину что-то поет…
Похоже, что начала спевку компания, недавно прошмыгнувшая стыдливо мимо нас и уже освоившая местечко где-то рядом за осинами. Мой отчим, лишенный слуха, любил и знал только две песни: «Бродягу» и «Солдатушки, браво, ребятушки!». Его забрали в тридцать седьмом, спутав с другим человеком. Через год выпустили — третьего человека. Тот, кого увели гепеушные солдатушки, перестал существовать, утратив свою веру, «преданность четвертому сословию» и любовь к времени, ради которого «разночинцы рассохлые топтали сапоги».
И тут от водокачки грохнуло:
Сергей поп, Сергей поп,
Сергей дьякон и дьячок,
Пономарь Сергеевич
И звонарь Сергеевич…
Боже мой, это тоже воспоминание отроческих лет. Потеряв в арестах и смертях почти всю родню и почти всю жилплощадь (комнатенку нам с матерью и бабкой все же оставили), мы сильно расширили наш песенный репертуар и навсегда полюбили застольный хор. Когда же вся квартира была растащена и, казалось, нечего ждать ни новых жильцов, ни новых песен, случилось чудо — к нам прирезали комнату из другой квартиры, принадлежавшей соседнему подъезду. И мы обрели Мальвину Жанновну, разведенную жену начальника одной из главных московских тюрем. Почему ее «переселили» к нам, замуровав со стороны бывших соседей, не знаю. Она была великаньей стати, тихая, молчаливая и все время сочилась, как скала, из серых выпуклых глаз, оплакивая ушедшего мужа. Он сохранил к ней привязанность и раз в неделю навещал. О его приходе мы знали заранее — Мальвина мылась в корыте на кухне за ситцевой занавеской. Ванна отошла к ресторанным Зубцовым вместе с комнатой деда, они в ней держали или керосин, или разливное вино — в зависимости от положения в стране. Тюремщик сильно выпивал. Надравшись, он обнимал свою огромную верную Мальвину и до полуночи орал «Сергея попа». Других песен не признавал. Голос у него был громаднейший, манера исполнения — раскованная. Может, из-за этого беспутного и шумного попа соседи изгнали Мальвину? У нас ее комната оказалась возле кухни, а кроме того, наша квартира дружила с застольной песней, как Милан с оперой. Молчала лишь одна комнатенка, после того как увели любителя «Бродяги» и «Солдатушек»…
Лес гремел песнями, и, вдохновленная этим поединком хоров, Гликерия Петровна еще раз взревела в разрыв голосовых связок и аорты, налив лицо гибельной чернильной кровью:
Окарасился месяц багаряныцем!.. —
и будто подавилась песней. Встревоженный Рентгенолог стал колотить ее по спине.
— Чего дерешься? — прохрипела она, когда лиловый багрец щек и лба перешел в пепельную сизость, обещавшую выживание. — Лучше бы налил людям.
— Будет сделано, Гликерия Петровна!.. Уже налил. Поехали!
— Хоть бы тост сказал. Что мы, лошади, — молча пить?
Он сразу нашелся:
— За весну!
Мы выпили. Содрогнулись — третья порция отравы идет хуже второй — и как-то дружно смахнули фанерку, на которой были пристроены все наши разносолы и бутылки. Фрейд отрицает случайность неловких жестов, равно обмолвок, описок — это подсознание обнаруживает наше истинное отношение к тому или иному лицу, предмету, событию. И сейчас подсознанию претило то, что мы вынуждены были пить и есть, и оно дало приказ повергнуть все наземь. Но сознание, знавшее, что лучшего не будет, среагировало столь же быстро, приказав рукам подхватить бутылки, прежде чем из них вытекли остатки сладостной отравы. Ну, а с остатками закуси особой беды не случилось. Сдуть соринки, еловые иглы и мертвых жучков — вся недолга. Лесной смолистый привкус даже приятен…
Между тем народ все прибывал. Сердечники и гипертоники ломили в лес, как партизаны. Впрочем, сам лес устранился от хлынувшего в него праздника, притих, замер. Как замечательно умеет прятаться одушевленная природа! Сколько тут всего пело, свистело, верещало, летало, прыгало, бегало, шныряло — и вдруг, словно разом, вымерло.
И чего-то все печальнее становился мне этот засекреченный, будто украденный праздник. Кто мы — победители или побежденные? Если победители, то почему мы не могли широко и свободно расстелить белые скатерти на зеленой весенней траве и со скорбным достоинством помянуть всех отдавших жизнь за Победу? Почему мы, а среди нас немало тех, «кто умирал на снегу», должны позорно хорониться в лесной чаще? И от кого хорониться? От тех объедающихся и опивающихся, которым вспало в башку наводить на обездоленных марафет трезвости, не дав ничего взамен единственному русскому отдуху?
Почему нас так унижают, срамят, третируют на каждом шагу? Немцы проиграли войну, но и они отмечают этот день, поминая своих погибших. Они выходят из дома хорошо промытые, сытые, холеные, превосходно одетые, садятся в свои «мерседесы», БМВ, «опели», «фольксвагены» и едут на кладбище, кладут цветы на могилы, к подножью общих памятников, молятся, притуманивая взор приличной слезой, а вернувшись домой к обильному столу, насыщаются по желанию и физическим возможностям, запивая свежую еду холодным мозельским, рейнским или пивом. И никому в голову не придет посягнуть на привычки, обычаи, бытовые потребности этих свободных людей…
Ко всему еще мне никак не удавалось попасть в тон нашему застолью. Порой казалось, что окружающие разговаривают не по-русски, а на каком-то фонетически близком, но смыслово далеком языке. Отчасти это объяснялось тем, что тут шел беспрерывный флирт, а птичий язык любви стороннему наблюдателю не слишком понятен. Произносится одно, а подразумевается совсем другое: «…часто пишется казнь, а читается песнь». Мне было отказано в этом прочтении. Атомщик и Фаина Петровна редко обращались друг к другу, но между ними шел такой же напряженный обмен, как между Рентгенологом и Гликерией Петровной, не скупившимися на слова. Порой я вроде бы угадывал если не предмет, то направление беседы, но, пытаясь включиться, неизменно попадал впросак, судя по вежливому недоумению окружающих. Я вдруг понял, что легко мне лишь с людьми, которые хоть детством помнят войну. Но даже наши обремененные годами дамы не могли нести в себе то метельное, шальное время. Один Артемьич обладал пацаночьим сознанием в годину жестоких испытаний. Он мог бы даже стать сыном полка, но такой возможности ему не подвернулось. Он тихо прожил на дедовской пасеке в глухом закамском селе, ему жужжали пчелы, а не самолеты. И все же при взгляде на его славную бороду становилось не так одиноко, теплело на душе.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: