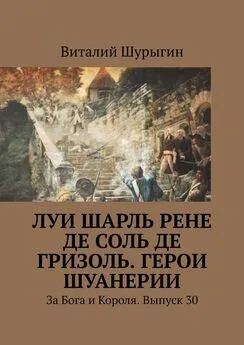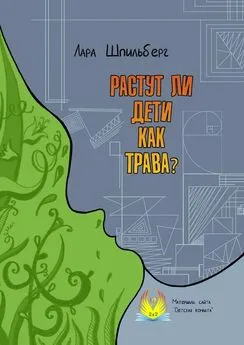Луи-Рене Дефоре - Болтун. Детская комната. Морские мегеры
- Название:Болтун. Детская комната. Морские мегеры
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство Ивана Лимбаха
- Год:2007
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-89059-100-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Луи-Рене Дефоре - Болтун. Детская комната. Морские мегеры краткое содержание
В настоящей книге впервые представлены на русском языке сочинения французского писателя Луи-Рене Дефоре (1918–2000): его ранняя повесть «Болтун» (1946), высоко оцененная современниками, прежде всего Ж. Батаем и М. Бланшо, сборник рассказов «Детская комната» (1960), развивающий основные темы «Болтуна» и удостоенный Премии критики, а также поэма «Морские мегеры» (1967) — один из наиболее необычных и ярких образцов французской поэзии второй половины XX века.
Болтун. Детская комната. Морские мегеры - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Убаюканный сладкой беззаботностью, я, однако, не догадывался, что с минуты на минуту стану главным и даже единственным действующим лицом сцены, каковую выше взялся описать для вас со всею сухостью и точностью, подобающими медицинскому заключению, — конечно, при условии, что, вспоминая волнение, обуревавшее меня в тот вечер, не разволнуюсь вновь. (Замечу в скобках: до сих пор я умышленно рассказывал не столько о предшествовавших событиях, в сущности малозначительных, сколько о том, как под воздействием каждого из них менялось мое душевное состояние. Посвящая этому рассказу так много времени, вдаваясь в мельчайшие подробности, я лишь хотел сделать более понятным то, о чем пойдет речь дальше. Считаю необходимым добавить, что не особенно люблю воскрешать воспоминания. Ни вам, ни мне не нужно, чтобы слова принимали слишком близко к сердцу, чтобы их понимали слишком буквально. Посудите сами, ну куда все это годится: я поцеловал такую-то, я был счастлив, она меня обманула, я огорчился, какой-то тип мне пригрозил, я испугался — и дальше в том же духе? Скажу прямо: большей скучищи и выдумать нельзя. Знаю, знаю: у нас во рту есть язык, мы изобрели перо, чтобы писать, и все, что нам теперь надобно, — это пользоваться тем и другим. И все-таки задумайтесь на миг: а черта ли в них толку, в языке и пере? Откуда в нас вообще столь извращенная потребность — бездумно трепать этим самым языком перед слушателями, восхищенно разинувшими рты или мирно смежившими веки, скрипеть этим самым пером, преследуя, как правило, единственную цель: обрести нечто такое, чего нам недостает в реальной жизни? Кто из нас помнит стыд и предается этому безрадостному занятию только в одиночестве, когда рядом никого нет? Известно кто: сумасшедшие, старые холостяки, всякое дурачье. И обратите внимание: сам я тоже, к чему отпираться, тоже признал, что мне нужны слушатели — немногочисленные, совсем немногочисленные, спору нет. Но все-таки нужны. Ладно, чего уж там: давайте говорить, давайте писать, отбросим сомнения, ведь нам все равно не уберечься от этой заразы.)
Рыжий коротышка, чье лицо стало изжелта-бледным, еще несколько мгновений колебался, не зная что предпринять. Он стоял в выжидательной позе, согнув руки в локтях, в любую минуту готовый на меня наброситься, и, казалось, испытывал своеобразное наслаждение, упиваясь одновременно и суровым обхождением женщины, которой повиновался с безусловной радостью, и собственным гневом, публично свидетельствовавшим о силе его любви. У меня застыла кровь в жилах, когда, опустив глаза, я увидел его колени, подрагивавшие под светло-серыми расклешенными брюками. Прежде я избегал смотреть ему в лицо, но теперь, желая скрыть страх, попытался смерить его холодным, равнодушным взглядом; меняя положение, я то так, то эдак расслабленно откидывался на спинку стула, но при этом стискивал зубами язык, чтобы мои губы не дрожали. И почувствовал невыразимое облегчение, когда он вдруг отвернулся, втянул голову в узкие покатые плечи и, нетвердо ступая, направился к своему столику в углу зала, откуда мог, как и раньше, краем глаза следить за нами.
После этого мы с женщиной остались наедине и между нами воцарилось молчание. Когда мы танцевали, я уже смутно представлял себе трудности, с которыми рано или поздно придется столкнуться, заговорив с нею на ее языке, однако не особенно тревожился на этот счет, полагая, что обмен банальностями может лишь охладить наш пыл; я даже радовался, что вынужден помалкивать — не столько из-за моего обычного неумения найти тему для разговора с незнакомым собеседником, сколько из-за незнания испанского, по-видимому вполне сравнимого с ее незнанием моего языка. Признаться, я был так пьян, что мое начальное смущение улетучилось почти сразу: еще во время танца я обнаружил, что мысленно рассказываю ей такие вещи, какие в обычной жизни не вздумал бы открыть даже ближайшему другу, не то что женщине, которую я, мягко говоря, едва знал, — если вообще допускать, что, увлекаемый мощным желанием и надеждой завоевать ее сердце, принялся бы говорить с нею, за неимением другого предмета, о себе самом.
Достигнув этого места повествования, я не могу не отдать себе отчета в том, как трудно будет описать одно из самых загадочных и непонятных событий моей жизни, — ведь чтобы не погрешить против истины, мне нужно воспроизвести происшедшее во всей его алогичности, но в то же время и сохранить подлинный масштаб, стараясь, с одной стороны, избегать тенденциозности и не приписывать этому событию посторонний смысл, а с другой — не впадать в преувеличенное бесстрастие, задним числом лишая его эмоциональной ценности, какой оно обладало. То, о чем я собираюсь рассказать, выглядит довольно странно, и это могло бы оправдать определенный способ повествования, но я уже говорил и повторю еще раз, что считаю этот способ недобросовестным, — словесный туман, хорошо продуманная хаотичность, наводящая особенный морок, так что перескоков в изложении не замечаешь и оно выглядит строго упорядоченным, своего рода магическая иллюзия, достигаемая с помощью выверенных пассов, все равно каких, лишь бы они применялись своевременно и оставляли у читателя впечатление полностью правдоподобного описания, множество хитроумно сочетающихся кунштюков, которые рождают в сознании представление о важности и, вместе с тем, исключительной напряженности изображенного момента, потрясая так глубоко, что отпадает необходимость в объяснениях на языке строгой логики, — словом, побольше искусства и поменьше честности. Нет же, нет! Я в самом начале сказал, что запрещаю себе прибегать к приемам этого рода — они, что и говорить, действенны, ибо, погружая факты в дымку призрачности, возвращают им ту нечеткость и бессвязность, какая, возможно, была им присуща изначально, но все же пагубны, поскольку в любом случае, и я это подчеркиваю, так сильно искажают прошлое, что уже не приходится мечтать о его убедительной интерпретации, а отказавшись от такой интерпретации, я сразу же потеряю из виду мою собственную цель, одновременно и более возвышенную, и более скромную. Более возвышенную, потому что я презираю авторов, которые, ссылаясь на то, что им нужно вызвать в читателе чувственные реакции, погрязают, как свинья в луже, в туманных и произвольных измышлениях, и хотя приходится не без горечи констатировать, что их вранье сплошь и рядом терпят, мало того — одобряют и восхваляют, сам я намерен вытравлять из моих писаний все, в чем нет полной прозрачности и ясности, по меньшей мере сейчас, когда мне хочется поступать именно так, — вообще-то я не считаю это нормой интеллектуальной гигиены или нравственным долгом. Более скромную, потому что в искусстве лжи есть такие вершины, куда не взойти и самым отъявленным лгунам. Театральные эффекты — не мое дело, уж лучше я буду держаться замысла, о котором сказал выше, правдиво описывая каждую фазу случившегося со мной припадка и заботясь лишь о том, чтобы в общих чертах передавать сменявшие друг друга впечатления. Может быть, кто-нибудь сочтет такое чтение не очень занятным, пусть, тем хуже для него.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: