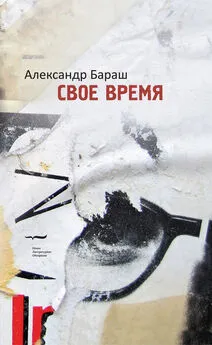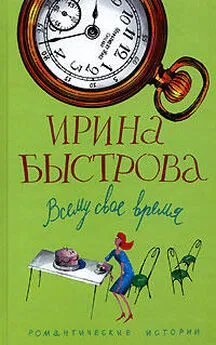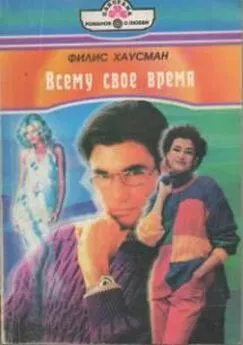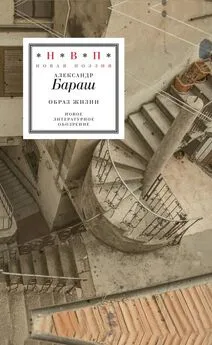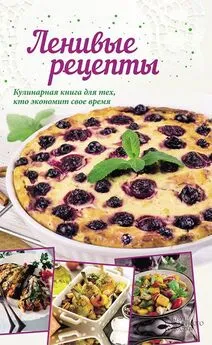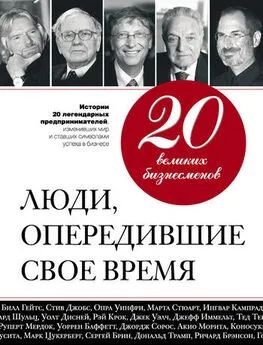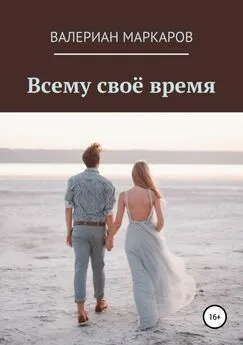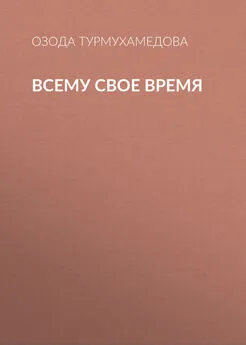Александр Бараш - Свое время
- Название:Свое время
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «НЛО»f0e10de7-81db-11e4-b821-0025905a0812
- Год:2014
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4448-0335-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Бараш - Свое время краткое содержание
Новая книга известного поэта, прозаика, эссеиста Александра Бараша (р. 1960, Москва) – продолжение автобиографического романа «Счастливое детство» (НЛО, 2006). «Свое время»: Москва, 1980-е годы, стихи, литературный андерграунд, путешествие по этапам отношений с советской цивилизацией. Это свидетельство очевидца и активного участника независимой культурной жизни Москвы той эпохи – поэта, издателя ведущего московского самиздатского литературного альманаха «Эпсилон-салон» (совм. с Н. Байтовым, 1985–1989), куратора группы «Эпсилон» в клубе «Поэзия», а также одного из создателей и автора текстов рок-группы «Мегаполис». Переплетение мемуарной прозы, критических эссе, стихотворений создает особый стилистический сплав, призванный восстановить «портрет поколения в юности» и передать атмосферу любимого города в переломное время.
Свое время - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Наиболее ценное в том, что он сделал, связано скорее всего с этим «беляевским» миром: пространством частной жизни, антропологическим измерением. Пригов создал в своем роде Энциклопедию Маленького Человека времени позднего СССР. Тезаурус житейских ситуаций: улица, магазин, очередь, готовка еды, сидение у окошка. Остановленная радуга мыслей и чувств, которые обычно проскальзывают по ходу существования, проблескивают на внутреннем горизонте «и плачут, уходя». А здесь они сохранены: «Только вымоешь посуду / Глядь – уж новая лежит / Уж какая тут свобода / Тут до старости б дожить / Правда, можно и не мыть / Да вот тут приходят разные / Говорят: посуда грязная – / Где уж тут свободе быть?»
Точность описания вызывает инсайт узнавания, опознания себя. И чувство освобождения: психотерапевтический эффект, когда травматичное проговорено – пройдено. В его стихах нет депрессии, тоски, а чаще всего тихое веселье, какое-то счастливое, восторженное отношение к любому предмету наблюдения. Более того, эти стихи, «будничные», «заземленные» – всегда со сквозняком, призраками, как на спиритическом сеансе, и вкрадчивым шепотом (внутренний голос?) из других сфер: «Когда я помню сына в детстве / С пластмассовой ложечки кормил /А он брыкался и не ел / Как будто в явственном соседстве / С каким-то ужасом бесовьим / Я думал: вот – дитя, небось / А чувствует меня насквозь / Да я ведь что, да я с любовью / К нему». Иррациональное ежесекундно возможно – «праздник, который всегда с тобой». При этом, будучи открыты вторжениям любых монстров и фантазмов, его стихи не садистичны, не грубы – а, экзотично для времени и места возникновения, нежны… в какой-то степени даже чопорны и целомудренны. Совсем мало обсценной лексики, и функции ее маргинальны, локальны: на уровне конкретного стихотворения. Автор, пусть и «мерцающий», не ассоциируется, не отождествляется с источником насилия. Он занят, увлечен совсем другим. Скажем, в цикле «Книга о счастье (в стихах и диалогах)» рефрен «Трупик, наверное» не пугает и не шокирует, основное ощущение – праздничное: от виртуозно уловленного частного и общего чувства беспокойства, тревоги, связанного и с запахами, «непонятно откуда» берущимися в «местах общего пользования», и с опасением, что вот в любой момент случится какая-нибудь пакость или, не дай бог, что-то обрушится, выползет, выпадет, выявится, будь то велосипед со стены в коммунальном коридоре, крыса из унитаза, сумасшедший с кирпичом на улице или беседа в «первом отделе» на работе. Здесь отыскивается разрешение мучившего вопроса, но на более универсальном уровне, чем в стихотворении: источник тревоги вербализуется, и таким образом «вскрывается преступление», находится «трупик» – а тот трупик, о котором идет речь в тексте, был, как мы теперь ясно знаем, из навязанного воображаемого…
Страшно жаль, что по ряду обстоятельств, и политических, и персональных, для нескольких поколений, в том числе моего, остались тогда неведомы Красовицкий, Чертков и весь этот круг поэтов. Там была традиция говорения от первого лица, с просвещенностью, масштабностью, месседжем и волшебством, которая могла бы стать альтернативой «блуждающему» или отсутствующему автору.
Концептуалисты были зубодробительно-хороши, но что делать, если и сам чувствуешь тупик, невозможность выхода из клаустрофобии любых существующих форм говорения – и при этом так же ясно осознаешь, что только это – твое, ты?
Условия выживания нашего вида литературных существ оказались довольно экстремальными. Но вот где-то между Набоковым, Бродским и «московскими концептуалистами» пульсировала исходная точка, с которой начиналась собственная траектория.
Были еще и близкие параллельные траектории. Параллельные – по времени, близкие – потому что иногда пересекались.
С одной стороны, Николай Байтов, с другой Юлий Гуголев… С разных сторон, поскольку их стилистика, и художественная, и «житейская», поведенческая, были очень несхожи – и при этом близки мне.
Старый, с конца 1970-х, друг и соратник Байтов решал дилемму возможности прямой речи где-то с рубежа 1980-х, и происходило это независимо, без связи с концептуалистами: литературные круги и кружки сошлись в едином «поле», узнали друг о друге только к середине восьмидесятых годов.
Дилемма прямой речи… дело, конечно, не только в этом, но в границах «я» и «мы», в противостоянии тоталитарному опыту и, шире, – любому обобществлению.
Движение к независимости, к освобождению – очевидное, хрестоматийное условие художественного действия вообще, и для него периодически возникали разнообразные определения, от пафосного, на сегодняшний вкус, «протеизма» до лексически сниженной «колобковости». Байтов предложил свое определение: эстетика « не -Х»; подразумевается отказ от законченного, застывшего стиля, устойчивого эстетического тренда и даже любой безусловной социальной признанности.
Такого типа эстетика часто провоцирует на «жизнестроительные» мифы, автор психологически готов перейти границу между литературой и «жизнью», и в ряде известных случаев (Артюр Рембо, Станислав Красовицкий) даже отказаться от литературы. Байтов постоянно, в течение десятилетий своего литературного существования, находится на этой границе . Периодически он совершает жесты «точечного отказа», но продолжает оставаться именно в промежуточной зоне, не делая решающего шага ни «вперед», ни «назад». Именно в этой зоне сохраняется максимальная возможность для свободы, удерживается пространство маневра: шанс уклониться от идентификации и одновременно ни от чего не отказаться.
Мотивы движения к независимости и свободе эксплицированы в ряде байтовских текстов 1980-х годов: «Любил врагов и ненавидел ближних…», «В первом доме робко и долго жил я в детстве…». Затем оказались уже в «основе», «позвоночнике» текстов и книг. И это продолжилось в бук-арте и в литературных перформансах. Переходы в сознании, в пространстве и во времени естественны и неощутимы. Грани между различными видами литературного действия (или между литературным и нелитературным действием) становятся незаметными. Один из таких эффектов, на пересечении литературы с бук-артом, Байтов описал в статье «Эстетика “ не -Х”»: «…Когда я выпустил книгу “Прошлое в умозрениях и документах”, моя знакомая поэтесса Наталья Осипова взялась ее рецензировать. Ей не составило большого труда догадаться, что в этой книге (изданной в типографии) имеет значение все – как в объекте book-art’а. <���…> Она заметила, что буквы на обложке (компьютерный шрифт “Cooper”) чуть-чуть подправлены мной от руки <���…> Я специально хотел, чтобы обложка оставляла впечатление этакой “домашней кустарности”, но полагал, что это будет общее, туманное чувство, неизвестно откуда происходящее, лучше, чтобы оно оставалось неосознанным <���…> Она написала, что такой эффект как бы выводит заглавие из плоскости обложки в другое измерение» . – Заглавие перестает быть неподвижным, очевидным в фиксированной системе координат, зависимым только от этой системы. Возможно, оно даже стремится стать, в идеале, субъектом взгляда, а не только объектом: живой, созидающей силой.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: