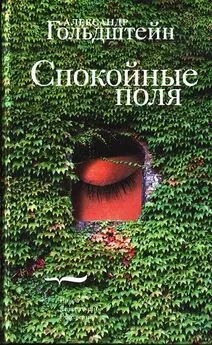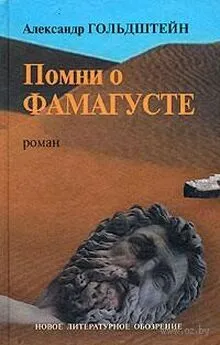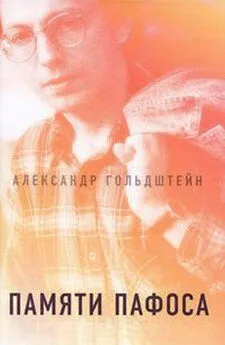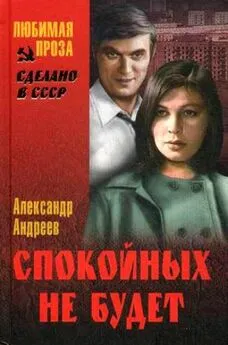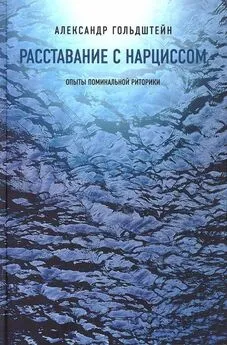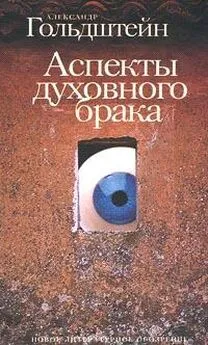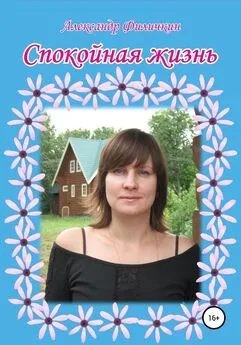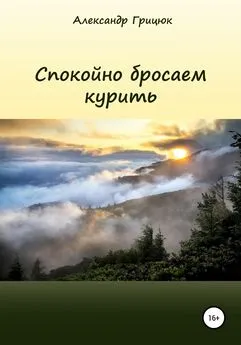Александр Гольдштейн - Спокойные поля
- Название:Спокойные поля
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое литературное обозрение
- Год:2006
- Город:Москва
- ISBN:5-86793-475-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Гольдштейн - Спокойные поля краткое содержание
Новая книга известного эссеиста и прозаика Александра Гольдштейна (1958–2006), лауреата премий «Малый Букер» и «Антибукер», автора книг «Расставание с Нарциссом» (НЛО, 1997), «Аспекты духовного брака» (НЛО, 2001), «Помни о Фамагусте» (НЛО, 2004) — увлекательное повествование, сопрягшее жесткие картины дневной реальности во всей их болезненной и шокирующей откровенности с ночной стороной бытия. Авантюристы и мистики, люди поступков и комнатные мечтатели, завороженные снами, очарованные наитиями, они сообща сплетают свои хороводы, что погружает прозу в атмосферу Луны и полдневья. Место действия — пространство воображения: Александрия Египетская, Петербург, Мадрид и Берлин. Время не ограничено хронологией.
Спокойные поля - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Для него нет невыполнимых заказов. Я получаю тетради немецкого лейтенаната. От них за версту разит горелым железом и мясом, о чем автору, заступившему в будущее, известно заранее. Поэтому о белладонне и можжевельнике, о сосновом, фольгою обложенном ящичке, в котором хранились игрушки, о лесных просеках к замку и рождественских свечах и псалмах, о вензелях на почтовой бумаге гостиниц и санаторных феях в платьях с крестами, платьях, таящих неосязаемо плотские, плотяные, неведомые мужчинам тела, о языке эпиграмм и неоконченном породняющем это все манускрипте. Я получаю изданный в предвоенном Шанхае мемуар чиновника из Маньчжурии, посвященный женьшеньщикам, камышовым котам и дрессированным обезьянкам. Дневник изменника, чтоб заедать им таблетку, черный в палевом обороте. Коробкину не составило большого труда, или же он его скрыл, по обыкновению изобразив дело так, будто скромно оплаченный приз собственной прихотью соткался под воздуходувами автовокзала, раздобыть того самого, из рук Торговецкого, Гварди, бесстыдно утраченного в необязательном переезде. Ветер лагуны, прелатишка, влажные портики, ковер, выбиваемый разбитною служанкой, сговорившейся поальковничать с учеником брадобрея, все было на месте, позлащенное облаком в водянистых, змеем расцвеченных небесах, — все, за вычетом Пашиных, от българской сигаретки, поощрительных кхеканий: говори, говори. Разохотившись, испросил я бельгийца, болотные томики в лилиях. Сестры молились, ухаживали, вышивали и пели, он слушал поодаль, как только он умел смотреть и слушать, не для своих впечатлений, письменно неизбежных, но в помощь тем, чьим голосам, и стежкам, и движениям кистей, повязку на больном лбу меняющих, был соучастник, не зритель. Пшеница волос и усов, мушкетерский развеивающийся в тумане овал.
Коробкин предложил по дореформенной орфографии Нильса и Мальте: затопляющая мгновенная тошнота, так ясно всхлюпнул короб на невской воде. На простыне дождя библиотечная комната-пробка, на холстине с пузырчатой пеной; хлещет из гарпий, горгулий, из труб водосточных, плывет вдоль решеток, плывет среди мокрых деревьев каюта. Небо трескалось, как орех под щипцами, слепила раскольничья белая ветка, низвергался в потоках озон. Двадцать девятого августа, осенью, кутаясь в шаль, девочка отпирала шкафы у окна. Бледная, все бледны у Невы, но дышала маленькой грудью, и розовели соски. Беря их губами, засасывая, поочередно с причмокиваньем мягкие всасывая, скользя в теплый курчавый подшерсток внизу, где минуту назад зябла одна и откуда, встрепав и разгладив руно, шел в податливость подтекающе слизистых створок, по-женски приимнопахучих, срамных, но девичьих в нежной неразработанности, сбереженности, я задремывал над страницей, будь это проза, будь это даже стихи.
Не надо, сглотнул я слюну, я буду над ними дрожать, вдруг пятнышко или клякса, и мы сошлись на позднейших, крепенько сшитых, в бумажных обложках с тисненьем и напуском. Около рынка в переплетении йеменских улочек есть улочка Йосефа Каро, председателя иудейского пира: тома «Накрытого стола» научили двадцать поколений соблюдению шестисот тринадцати заповедей. Йосеф Каро, старец в венецианском халате и малахае, бодро спускается к морю. Соль блестит на желтых стенах едальни, талмудического собрания, магазина цветов — алоэ, кактусы, горшки, землица; выдолбленные сушеные тыквы с начинкой, гремящие погремушкой при встряхивании. Сирень течет за ограду к лимонным деревьям, здесь, у кованых прутьев и листьев пить ночами целебный настой, а таблетки в помойку. Харчевня Авшалома это суп, обжигающе наперченный, это лепешка и ноздреватая брынза, маслины и хумус, гороховый в блюдце замес. Остужаю лимонной водой из плодов за оградой, подготовляю момент. Таблоид — на незастеленный пластик, газетка в своем роде не хуже «Рабочего», новости о виагре и бесчинствах служителей зоопарка, надругавшихся над грузовым индийским слоном, увы, без шахматной колонки и траурных, не распугать бы публику, объявлений; читаю бустрофедоном, кое-что, но не все, пропуская, как для загадочности кое-что пропускал в чайхане, в рубиновой чайхане Нильса и Мальте, как той же методой читал башкирцеву-надсона.
С фортом Усольцева намаялся даже Коробкин, я искал матерьял для портрета и утыкался в молчание, когда бы не в круговое замалчивание, наконец чародейными жестами благодетель мой выгреб из пустоты свидетельство, косвенно прикосновенное теме. В ростовской лета 1942-го брошюре учитель словесности, инспектор школьной управы при немцах, положив ругань на размер прыжовских сарказмов, запоздало с иваном гаврилычем лаясь по существу, под занавес заклинает новую власть, спасительницу возрождаемого міра, попечительствовать юродивым: ими и открывался при большевиках тайный список подлежащих уничтожению русских людей. Юродство позвоночный столб, ось народная, старше, чем самая церковь Москвы; от первомонашества византийского за основания русского лада предстатели, его стихиали, духи стихий. До тех пор Россия, доколе в рубище с клюкой, на морозе гноясь и мочась на соломе, вприсядку бесчинные скакуны голоштанные, кликуши голодные, мясом в цепях и веригах играющие, на палочке с голубком от волчьего лиса утрюхивающие — слово свое говорят. Шубу ума русского выворачивающие, целее была бы чтоб. Не переводятся, сколько ни заушай по застенкам. А кто тронет юродов, тому гибель и мор. Сталинским, на коленях, советам потому не подняться с колен, что душа мстящая — мстит, с чем декламатора хотелось поздравить, но под строкой густело муравейное примечание.
До войны в южном городе, гораздо восточней донского Ростова, автор, командированный по обмену, встретил сборище шалопутов, забавлявшихся нострадамусами, оракулами на политические темы газет (лучше дамусы, чем нострадамусы, не удержался он от гвардейской остроты). На рассвете после пирушки, оборотясь к туманным горнам, издалека еле звучно трубящим в опаловой с папиросным дымком пелене, молодежь выкликала катрены, импровизируемые на трезвейшую, как показали события, голову, с такой точностью — ах, с какой точностью! — все подтвердилось потом. Отнести прорицателей к исконно юродивым помешал автору расово подозрительный состав коллектива, но попойка и фаталистическая беспечность юнцов, видать, запали в него глубоко, коли приспичило вернуться к «симпосиям» в очерке, заявленном на обороте обложки; Коробкин текст не нашел, да он и не был написан.
Велеречивый агитатор поскупился на краски, в куцей сноске их нет. Я, однако, обрел то, в чем нуждался, подтверждающий штемпель на Фириных мемуарах, телесных и романтичных, как русские, подсмотренные в щелку евреем.
— Коробкин, ты ж книг не читаешь, как ты узнал, что внутри?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: