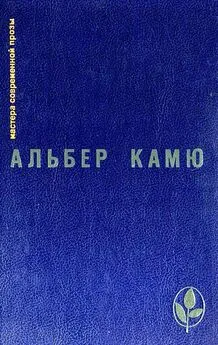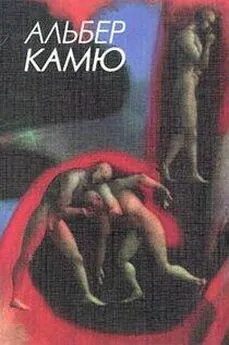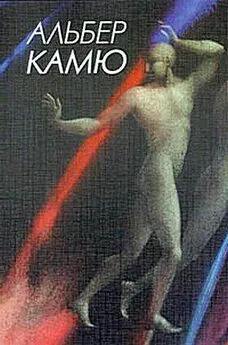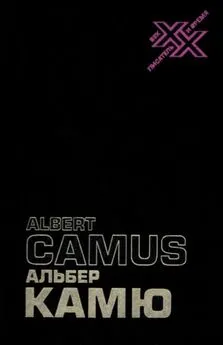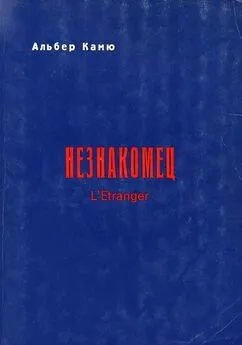Альбер Камю - Избранное
- Название:Избранное
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Радуга
- Год:1988
- ISBN:5-05-002281-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Альбер Камю - Избранное краткое содержание
В сборник входят лучшие произведения одного из крупнейших писателей современной Франции, такие, как «Чума», «Посторонний», «Падение», пьеса «Калигула», рассказы и эссеистика. Для творчества писателя характерны мучительные поиски нравственных истин, попытки понять и оценить смысл человеческого существования.
Избранное - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Где же в таком случае вина венценосного убийцы? И есть ли она вообще? Или это просто беда, горе от ума? Ведь выходит, что Калигула вроде бы мученик непререкаемой бытийной истины, жертва своей страсти быть верным ей до конца. И по крайней мере отчасти очищен тем, что готов искупить свою последовательность, заплатив собственной кровью за пролитую кровь и причиненные другим муки. Изнемогший под бременем неопровержимой смертельной логики, он сам подставляет грудь под кинжалы заговорщиков, когда они все-таки дерзнули взбунтоваться. Взыскуя невозможного в своем вызове вселенскому неблагоустройству, он пускает в ход имеющуюся у него возможность — нагромождать трупы и под конец швырнуть в общую груду свой собственный труп. Камю делает немало, чтобы заставить нас влезть в шкуру своего тирана от отчаяния, проникнуться пониманием этого «падшего ангела» изнутри — и вместе с тем он хотел бы предостеречь против бесовской одержимости Калигулы быть на свой лад цельным, породнить мысль и дело.
История сама позаботилась о том, чтобы высветить коварнейшую нравственную двусмыслицу бунтаря против судьбы, сеющего смерть, и при первой же постановке трагедии в 1945 г. заставила перенести упор на его развенчание. В жути блуждающего взора Калигулы — Жерара Филипа зритель тогда без труда распознавал взгляд калигул со свастикой, совсем недавно бесчинствовавших во Франции. За этим постановочным сдвигом к однозначности, с тех пор обычным для попыток воссоздать «Калигулу» на театре, крылся серьезный пересмотр Камю своих отправных воззрений в промежутке между замыслом, восходящим к 1937–1938 гг., и появлением пьесы на подмостках. Судить впрямую об этой смене духовных вех под давлением обстоятельств военного лихолетья позволяет прежде всего эссеистика Камю.
Философский труд «Миф о Сизифе» убеждает, что в уста и «постороннего», и Калигулы Камю вложил многие из ключевых своих мыслей предвоенной поры. На страницах этого пространного «эссе об абсурде» они так или иначе повторены и обстоятельно растолкованы, а под самый конец еще и стянуты в тугой узел притчей — пересказом древнегреческих преданий о вечном труженике Сизифе.
По легенде, мстительные боги обрекли Сизифа на бессрочную казнь. Он должен был вкатывать на гору обломок скалы, но, едва достигнув вершины, глыба срывалась, и все приходилось начинать сызнова. Спускаясь к подножью горы, Сизиф, каким он рисуется Камю, сознавал всю несправедливость выпавшей ему доли, и сама эта ясность ума уже была его победой. «Пролетарий богов, бессильный и бунтующий», не предавался стенаниям, не молил о пощаде, а презирал своих палачей. Свой тяжкий труд он превратил в обвинение их неправедности и свидетельство мощи несмиренного духа; в бессмыслицу внес смысл своим вызовом: «единственная правда — это непокорство».
Случилось так, что дни, когда Камю завершал свое эссе, располагали очень и очень многих во Франции внять стоической мудрости Сизифа. Разгром 1940 г. обрекал на рабство, ничто не предвещало счастливого исхода чреды худших превратностей. И впрямь было от чего дрогнуть, заклеймить слепую жестокость истории, которая будто взялась доказать, что она кровава, равнодушна к мольбам и укорам, ей плевать на благороднейшие чаяния. Пройдет всего год-два, и вести о победе на Волге послужат внушительным опровержением этих апокалипсических «самоочевидностей». Пока же простому рассудку с ними не справиться. Он легко мог расчислить, что надеяться, тем более сопротивляться глупо и остается либо сотрудничать с захватчиками, либо пустить себе пулю в лоб. Во Франции была пора, когда плоское здравомыслие разоруживало. Зато непроизвольное, парадоксально-сумасбродное упрямство поступков, рационально не выводимых из обозреваемых жизненных данных, без надежды на успех, помогало устоять против искусов предательства или самоуничтожения. Продолжаю жить и делать свое дело, зная, что это несуразно с точки зрения куцего благоразумия, — вот весьма распространенный тогда настрой умов.
Но если трагический поворот истории выявил ту долю нравственной правоты, которую в обстановке катастроф сохраняет не внемлющее никаким пораженческим доводам упрямство Сизифа, то злободневные запросы истории обнаруживали и нравственную недостаточность, изъяны сизифовой мудрости. Ведь спустись, скажем, Сизиф однажды, вопреки приговору небожителей, с безлюдного горного склона в долину, где враждуют между собой племена ее обитателей, он очутился бы перед неразрешимой для него задачей. До сих пор все было тяжело, но по крайней мере ясно: камень, гора и нечеловеческий труд, от которого Сизифу не дано избавиться. Теперь же перед ним разные пути, среди них следует предпочесть какой-нибудь один, обдумав, почему, собственно, этот, а не другой. Сизиф начинает лихорадочно искать, однако на ум приходит вереница малоутешительных афоризмов: правды нет ни на земле, ни выше, все бессмысленно, значит, «ничто не запрещено» и «иерархия ценностей бесполезна», ей не на что опереться. Любой выбор, следовательно, оправдан, лишь бы он был внятно осознан. Позже Камю без обиняков укажет на самое слабое, ломкое звено разрыва в цепочке философствования, стержневой для «Мифа о Сизифе»: «Чувство абсурда, когда из него берутся извлечь правила действия, делает убийство по меньшей мере безразличным и, значит, допустимым. Если не во что верить, если ни в чем нет смысла и нельзя утверждать ценность чего бы то ни было, тогда все позволено и все неважно… Можно топить печи крематориев, а можно и заняться лечением прокаженных. Злодейство или добродетель — все чистая случайность и прихоть».
Еще до выхода «Мифа о Сизифе» в свет вытекавшее из книги вольное или невольное попустительство своеволию, по сути своей внеморальному и безнравственному, не могло не устареть в глазах Камю-подпольщика. Включившись в Сопротивление, он был вынужден подладить орудия своей мысли к собственному решению служить делу защиты родины и человечности. Какая польза была его сражающимся соотечественникам в откровениях по поводу вселенской нелепицы, сопровождаемых советами не делать различий между добром и злом? В четырех «Письмах к немецкому другу» Камю постарался наметить тот уступ, ухватившись за который он предотвратил бы соскальзывание своей мысли к карамазовски-ницшеанскому «все дозволено». И встроил для этого в свое былое философствование весьма существенно уточнявшую его гуманистическую посылку: «Я продолжаю думать, что в этом мире нет высшего смысла. Но я знаю, что кое-что в нем все-таки имеет смысл, и это — человек, поскольку он один смысла взыскует. В этом мире есть по крайней мере одна правда — правда человека… его-то и надо спасти… это значит не калечить его… делать ставку на справедливость, которая внятна ему одному».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: