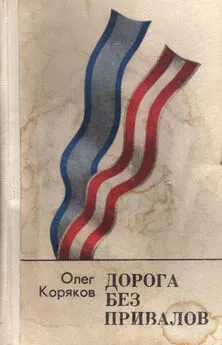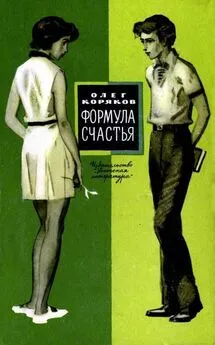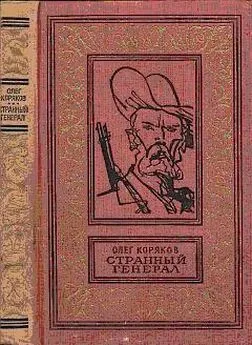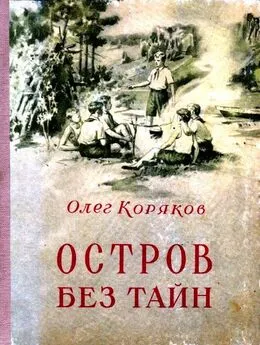Олег Коряков - Дорога без привалов
- Название:Дорога без привалов
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Средне-Уральское книжное издательство
- Год:1977
- Город:Свердловск
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Олег Коряков - Дорога без привалов краткое содержание
«Дорога без привалов» — так называется эта книга.
Дорога без привалов — это наша общая дорога, это путь советского народа и вместе с ним уральцев.
Рабочие, инженеры и писатели, сталевары и горняки, прокатчики и строители, слесарь и учитель — самые разные люди живут в этой книге. Кто-то из них уже умер, но память о них не уйдет из нашей жизни.
Уже поднято знамя десятой советской пятилетки. А книга рассказывает о днях прошедших пятилеток, начиная с первой. О них мы забывать не можем: ведь это они привели нас в Сегодня. Мы не можем забывать о тех, чьими делами мостилась и мостится дорога в Завтра. Наша славная дорога без привалов…
Дорога без привалов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Я не собираюсь перечислять все произведения Хазановича, но не сказать хотя бы коротко о некоторых из них не могу.
… Только-только отгремела война. Страна лишь начинала залечивать страшные кровоточащие раны. Но уже звучала в буднях, нарастая, величественная и светлая симфония мирного труда. Я понимаю, это тривиальная фраза. Но если вслушаться в мир — фраза очень верная. Надо было тогда, в еще ноющие ранами годы, уловить главное — завтрашнее. И в начале 1947 года в альманахе «Уральский современник», а затем в журнале «Сибирские огни» появилась повесть Ю. Хазановича «Мне дальше».
Она о строителях. О тех, кто поднимал и поднимает в вековой таежной глухомани новые города. О тех, кто в немалой мере олицетворяет советскую эпоху. Может быть, поэтому конфликт, изображенный писателем, — конфликт между теми, кто окрылен высокими общественными целями, и теми, кто ползает в тине собственного благополучия, — выглядит особенно остро и обобщенно.
Очень жаль, что, несмотря на одобрительные отзывы читателей и прессы, несмотря на уговоры товарищей, Юрий Яковлевич так и не издал повесть отдельной книгой. У него своеобразная, я бы сказал, безжалостная к себе манера работы. Напишет крупную вещь, напечатает в журнале и — в ящик стола. Почти как у древних. Пройдет несколько лет, как это было, например, с «Широкой колеей», ставшей в конце концов повестью «Свое имя», — Хазанович достанет рукопись из стола и начнет черкать ее, перечеркивать, выбрасывать куски и главы, переписывать их и писать новые… Так рождалась у него книга.
Правда, частично свою повесть «Мне дальше» Юрий Яковлевич использовал в кино. Ее основные сюжетные линии легли в основу фильма «Одна строка», сценарий которого писатель создал в соавторстве с режиссером Иваном Правовым. Однако фильм сослужил свою службу, а повесть должна бы жить своей жизнью. Сегодня она, мне думается, зазвучит — издай ее отдельной книгой — не менее современно и впечатляюще, чем звучала почти тридцать лет назад. Потому что главное в ней — неуемность души советского человека-созидателя.
Герои произведений Юрия Хазановича всегда люди поиска и высокой цели. Жизнь для них — не гладкая дорожка, скорее — бурелом. Я не помню у Хазановича ни одной «приземленной» вещи, — все исполнено стремления к большому, чистому, благородному.
Может быть, именно поэтому Юрий Яковлевич стал одним из любимых авторов издательства «Детская литература». Большинство его книг было прямо или косвенно адресовано молодому поколению. О нем писатель думал непрестанно, заботой о его воспитании были пронизаны, по существу, все произведения Хазановича последних перед смертью лет.
Высокая целеустремленность, пусть с ошибками и срывами, неизбежными для подростка, ведет главного героя повести «Свое имя» Митю Черепанова, сына паровозного машиниста, погибшего на фронте. Повесть — о военных годах, но не о войне; действуют в ней железнодорожники, но вещь эта все же не о железнодорожниках. Содержание ее, ее звучание глубже и значительней. Это повесть о становлении советского рабочего человека.
С убедительным проникновением в психологию юной души писатель рассказал о нелегкой дороге в большую жизнь, на «широкую колею». События, описываемые в повести, происходят в уже далекую от нас пору, но ее проблематика непреходяща. Отношение к труду, к традициям старшего поколения, вопрос о праве на свое, своим трудом утвержденное имя — все это волнует и нашу сегодняшнюю молодежь, и нас, отцов и дедов.
В сложном сюжетном переплетении, в столкновениях разных характеров и взглядов, в суровых испытаниях рисует автор судьбы героев. Порой, когда перечитываешь «Свое имя», берет этакая добрая зависть: вон ведь как «ловко» повернул события автор, нашел самую выразительную и, может быть, единственную верную деталь для обрисовки состояния героя!.. А как это повертывалось, как искалось, я помню. Бывало, при встрече или в телефонном разговоре Юрий Яковлевич скажет:
— Придумал я один эпизод…
Или:
— Придумал я одну фразу…
И тут же перескажет или прочтет.
«Придумывались» эти фразы, искались, вынашивались им днями, подчас неделями, иногда месяцами. Пишет неспешно своим убористым, чуть в раскат почерком страницу за страницей уже выношенное, потом сидит задумавшись — и вдруг прорвется то, что гвоздиком давно засело в мозгу, и вспыхнет эта фраза или эпизод. Глядишь, он заново черкает свою рукопись, выбрасывает что-то, вставляет новое.
Неписатель тем и отличается от писателя, что пишет себе и пишет без оглядки. А писатель пишет и зачеркивает, пишет и зачеркивает — мучается, трудится. «Придумать» — найти «изюминку», отыскать наиболее точное, нужное слово, изобразить сцену, без которой нельзя обойтись, и выбросить ту, без которой обойтись можно, уловить тонкий нюанс в переживании героя — из этих, порой мельчайших, находок и складывается радость творческих «мук слова».
Эту радость Юрию Яковлевичу приносила не только художественная проза, но и публицистика: ей он отдавался так же самозабвенно. А порой тут и грани не проведешь — когда речь идет об очерках.
Очерков у него написано было много. Печатались они и в газетах, и в журналах, а часть их составила его книги «Особая грань», «Счастливые люди», «Поиски, тревоги, мечты», издавались и отдельными книжечками — «Байкаловские огоньки», «Это счастье».
Хазанович любил людей, его тянуло к ним, особенно к тем, кто на стремнине жизни. В очерках своих он сам был весь в «поисках, тревогах, мечтах», то задумчив, то гневен, то ласков, то возвышен. Рисуя портреты современников, он распахивал их духовный мир — мир людей, строящих новое общество.
И в кино Юрий Хазанович пришел как очеркист. Это уже потом появились его художественные фильмы «Во власти золота» и «Одна строка». Кстати, «Во власти золота» был одним из самых первых уральских художественных фильмов, он пользовался большим успехом, а в Америке, писали газеты, когда шла эта картина, публика буквально осаждала кинотеатры; в нашей стране он идет и по сию пору, а не так давно его опять показывали по телевидению… Но вначале были киноочерки. Впрочем, были они и «потом». Я помню, например, очерки «В таежном краю», «Уралмаш», «Певец Урала», «Тайга покоренная», «Свердловск», полнометражный цветной фильм «Однажды летом» — своеобразная киноэкскурсия по Уралу. Совсем незадолго до смерти Юрия Яковлевича вышел на экраны фильм «Сказы Уральских гор», в котором он выступал как соавтор сценария.
Тяга к очерковому, документальному жанру возникла у Хазановича давно — надо полагать, еще со времен его сотрудничества в институтской и заводской многотиражках. По мере накопления мастерства она выливалась во все более совершенные и сложные формы. Так появились маленькие документальные повести «Заключенный № 10920», «Рождение машины», «Байкаловские огоньки» и большая работа в этом жанре, которой суждено было стать последней книгой Юрия Хазановича.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: