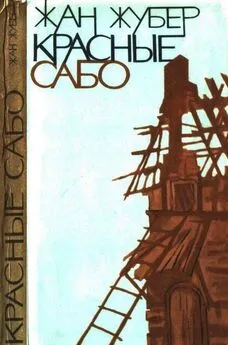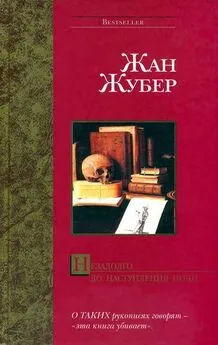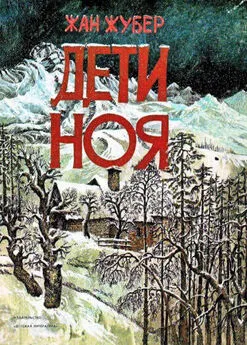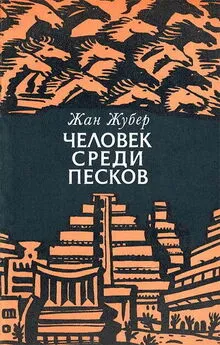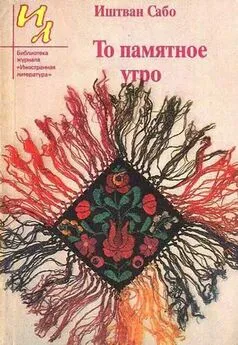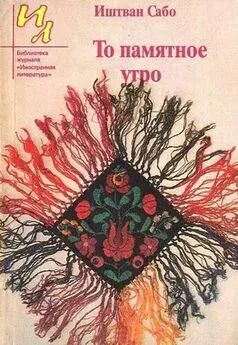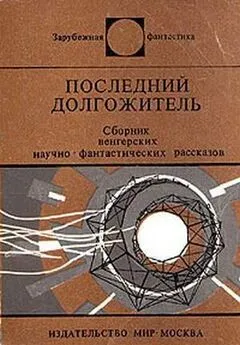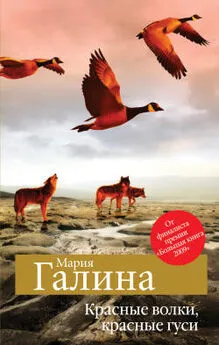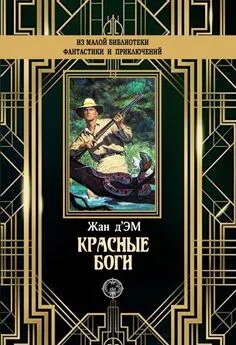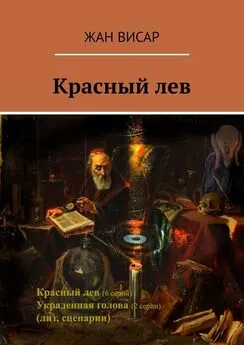Жан Жубер - Красные сабо
- Название:Красные сабо
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Радуга
- Год:1983
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Жан Жубер - Красные сабо краткое содержание
Известный поэт и писатель рассказывает о своих детских и отроческих годах. Действие книги развертывается в 30-е гг. нашего века на фоне важных исторических событий — победы Народного фронта, «странной войны» и поражения французской армии. В поэтическом рассказе об этой эпохе звучит голос трудовой Франции — Франции рабочих и сельских тружеников, которые составляют жизненную основу нации.
Красные сабо - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Вот о чем я думал, глядя, как сумерки затопляют двор, и внезапно, сам не знаю почему, я вспомнил лестницу со стороны заднего двора —. невидимая с улицы, она вела к подземному ходу, закрытому черной решеткой. Никто не входил туда, сомнительно даже, имелся ли у кого-нибудь ключ. Несмотря на строгое запрещение, мы иногда тайком спускались по этой лестнице и, прижавшись лицом к решетке, пытались разглядеть что-нибудь в темной дыре, откуда веяло могильным холодом. Некоторые уверяли, что этот ход ведет в некое подземелье под рыночной площадью, другие — что он доходит до самого замка, стоявшего на холме, находились скептики, утверждавшие, что ход оканчивается тупиком. Однажды Фабр принес отмычку и электрический фонарь и, сбежав с послеобеденных занятий, долго ковырялся в замке, который так и не поддался. Может быть, правы были те, кто не верил, будто ход ведет куда-то. Мне нравится, что эта тайна так и не открылась нам, и она до сих пор интригует и занимает меня, как те герметически закрытые «коробки с секретом», внутри которых, если их потрясти, слышится стук неизвестного предмета, чья единственная ценность как раз и состоит в том, чтобы остаться неразгаданным.
Ночь опустилась на землю, пока я бродил улочками вокруг коллежа. Зажглись фонари, всё такие же тусклые и унылые. В этот час прохожие на улицах редки, за ставнями домов приглушенно бормочут телевизоры, а открытые окна светятся голубоватым аквариумным светом экранов. Какая тяжкая пелена грусти лежит на этом городке, где все обрекает его жителей на скудную затворническую жизнь! В этих домишках, где хмуро господствует серый цвет — и на фасадах, и на ставнях, и, чуть потемнее, на черепичных крышах, будто отражающих вечно затянутые тучами небеса, — течет по извечной своей колее серая жизнь. Конечно, существуют радостные минуты детства, короткие безумства юности: любовь, вино, велосипедные гонки, — но через несколько месяцев, самое большее через несколько лет все попадает под серый тяжкий пресс тишины. Люди обосновываются в своем жилище, замыкаются в нем, и безбрежный мир съеживается до пределов семьи, ремесла и домашнего очага, где из поколения в поколение повторяются одни и те же привычные ритуалы: праздники, церковные обряды, кино по субботам, прогулки по воскресеньям, и только какая-нибудь историческая драма или чья-то личная трагедия способны на мгновение пошатнуть это устоявшееся существование. Но быстро, очень быстро порядок восстанавливается, и я всей кожей чувствую давящую силу этой осторожной устойчивости, отвергающей всякие жизненные бури. Приключения вызывают порой интерес, но на расстоянии, и пусть их переживают другие, а мы только тайно помечтаем о них. И однако, в этом узком мирке процветают мелкие добродетели, расхожая мудрость и смиренные страсти, вложенные в основном в дом и сад. О эта ужасная провинция! Ужасная вдвойне оттого, что под нею лежит эта скудная неблагодарная земля, без таких упоительных открытий, как море, могучая река, необозримая равнина, теряющаяся на горизонте. Вот от чего я бежал в юности, и все же, все же я знаю, она намертво приросла к моей коже, мне не избавиться от нее, как никогда не забыть ни тумана, ни холодов, проживи я на солнечном Юге хоть сто лет.
Я прошел мимо старой почты, где моя мать проработала больше сорока лет, сидя в темном закутке с матовым стеклом в окне, забранном толстыми железными решетками, отгораживавшими ее от внешнего мира. Мне случалось стучать в это окошко, когда я возвращался из коллежа. Мать открывала его, и мы обменивались несколькими словами, за ее спиной я видел стол, заваленный пачками денег, и дверцу сейфа.
— Ну, до вечера, — говорила она. — Мне надо побыстрее сдать кассу.
— Ты поздно вернешься?
— Надеюсь, не очень.
— Ладно, я пошел. Пока!
И вот я снова в этом переулке, под булькающим дождем. Я направляюсь к улице Доре, там хотя бы витрины освещены и можно встретить солдат, что по двое, по трое возвращаются к себе в казармы. Теперь здесь на месте старых кафе полно баров с игральными автоматами и неоновым освещением, но, несмотря на шум и яркий свет, ничто не в силах стереть грусть с лица этого города.
В детстве передо мной не стояла проблема неравенства: мы все были одинаково бедны, или, если точнее, все «жили скромно». Беднее нас были только русские, украинцы и поляки — эмигранты, жившие на другом берегу реки, в заводских кварталах. Мы их почти не видели. У них были свои школы, свои праздники, своя деревянная церковь с колокольней, с луковицей, обшитой цинком. То была крошечная иностранная территория, где звучала разноязыкая речь. Те, кто не хотел селиться в рабочих поселках, ставили себе в стороне маленькие домики с садом и огородом, где росли огурцы и подсолнухи. Мы говорили об эмигрантах с легким пренебрежением, но, если бы им вздумалось поселиться среди нас, никто не стал бы возражать и их детей мы приняли бы в свою компанию.
А буржуа: врачи, адвокаты, инженеры, крупные коммерсанты — жили в основном в Монтаржи, и их мы тоже видели очень редко. Они вращались в своем особом мире, как правило, посылали своих детей в частные школы и в нерабочие часы старались держаться на расстоянии от людей попроще. Эти парвеню разыгрывали из себя аристократов, важничали и задирали нос в церкви, на конных состязаниях, а по воскресеньям выезжали на прогулку всей семьей, с детьми и собаками, на автомобилях и катили по дороге на Покур, по самым красивым лесным угодьям. Что касается графа де Грамон, то он наезжал из Парижа с кучей гостей только для того, чтобы поохотиться, ни с кем из местных жителей не общался и, вероятно, с одинаковым презрением относился и к буржуа, и к «прочей швали».
Буржуа стремились воспитать в своих сынках крепкую хватку, а в дочерях — способность обольщать. А нас призывали никуда не стремиться, сидеть себе на месте! Самым способным была уготована карьера школьного учителя — предел мечтаний! Мне кажется, моему отцу хотелось бы сделать из меня инженера, конечно, не выпускника прославленного высшего учебного заведения, о которых он, наверное, мало что знал и которые, несомненно, казались ему совершенно недоступными; нет, он видел меня скромным заводским инженером с дипломом местного технического училища. Честолюбивые устремления внушали ему страх. Еще в школе его убедили, что нет худшего порока. Возьмите, например, честолюбие Наполеона, не пользующееся одобрением учителей, — ведь то была катастрофа для Франции и для него самого! Он вполне заслужил остров Святой Елены!
Поэтому, когда мой отец величал кого-нибудь честолюбцем, этим все было сказано: честолюбец приравнивался к негодяю. Отец видел в этом свойстве характера что-то непорядочное, нечестное — ведь честолюбец способен пройти по трупам! Разубедить его было невозможно. Я как-то перелистал его школьную хрестоматию: полно назидательных историй о том, что каждый должен знать свое место.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: