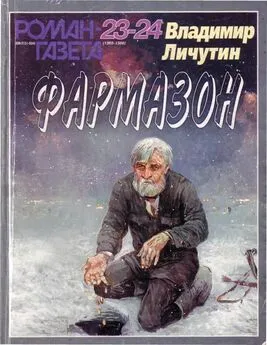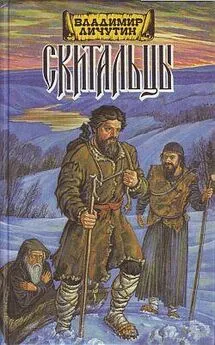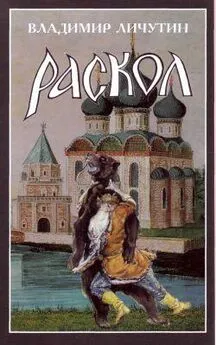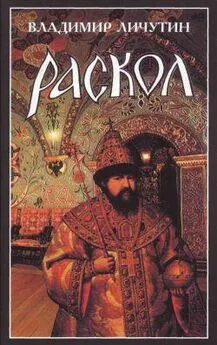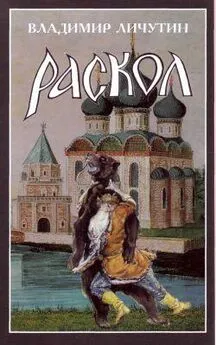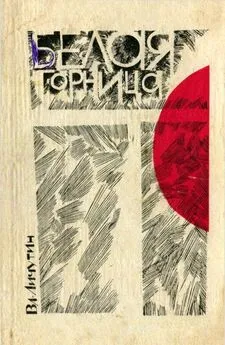Владимир Личутин - Миледи Ротман
- Название:Миледи Ротман
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Роман-газета
- Год:2002
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Личутин - Миледи Ротман краткое содержание
Известный русский писатель Владимир Личутин, автор исторической трилогии «Раскол», в своем новом историческом романе обращается к современной и острой теме тех семейных отношений, когда, по словам Л. Н. Толстого, каждая несчастливая семья несчастлива по своему. Автор создает яркий, глубоко психологический образ современной «мадам Бовари», женщины, искренне стремящейся любить и быть любимой. В основе поведения героев романа, их поиска места в жизни — психологический надлом, потеря нравственных ориентиров, ощущение одиночества. Яркими штрихами передана острота споров о происходящих в России событиях, о перестройке, которая черной полосой прошла через судьбы героев. В этом романе есть и мягкий теплый юмор, и жестокая ревность, и драматическая любовь. Книга написана живым, неповторимо сочным «личутинским» языком.
Миледи Ротман - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Ротман одиноко лежал на берегу, провожая взглядом мчащиеся мимо лодки. Река кипела, словно бы здесь, на северах, началось срочное переселение людей. Каждый хотел добыть рыбки на варю, засолить в запас, на зиму, каждый полагал сорвать удачу, будто эти стремительные воды превратились в новый Клондайк, где можно бы при успехе намыть золотишка.
Ротман смотрел на все со стороны, как на экран, на котором что-то мельтешило, куда-то стремилось с такими крохотными неясными целями, которые невозможно было понять. Но коли народ так деятельно шевелился, очнувшись от спячки, коли строил туманные мечты, значит, он не вовсе пропал, но как бы сбрасывает свою прежнюю толстую шкуру и наращивает тонкую, пока непонятную, но все же прикрывающую от невзгод. Народ хочет жить — и в этом сущая правда.
Но эта мысль Ротмана не обрадовала, ибо он-то, исполнив свои замыслы, как бы вдруг остался не у дел, выпал из телеги на обочину и теперь, не в силах подняться сразу и вскочить на заднюю грядку, с тоскою смотрел вослед, как удаляются дребезжащие на кочках колеса. Ротман неистово накачивал мышцы, закаляя тело, купался в проруби и, как зверь, валялся в снегу, он строил избу и наконец завел под крышу семью, ночами байкает тонко нявгающего сына и утешивает жену, жаркую, распаренную на печи до самого нутра, изнывающую по любви каждой мясинкою. Все, кажется, исполнилось, но язвочка в груди не засыхает, струпец не отпадает, и постоянно сочится кровка. Все же зачем терпел он невзгодь и неудобь, поклонял выю, изнурял и неволил тело и закалял волю? Не Рахметов же, слава Богу, не умалишенный. Кто знает, кто знает… Ибо все, что исполнилось в последние годы, не требовало таких лишений. Вроде бы готовился к подвигу, чтобы броситься с гранатою под танк, а в итоге убил саперной лопатою мышу. Мечтал словить жар-птицу, а поймал случайное сорочье перо, выпавшее из воробьиного гнезда.
… Наверное, устал человек, просто устал и скис на время, обезволел, опустошился, измылился нервами, и не столько от трудов праведных, сколько от ожидания праздника; и когда случился он, когда свалилось счастие на голову, как снежная кухта с таежной елины, отликовать его на полную грудь уже не хватило душевных сил.
Дымком повеивало по берегу, кое-где уже попискивали чайники; легкая роса выпала, и рудяной камень потемнел от влаги. Серебряный туск белой северной ночи повис над рекою, будто кисейный полог, и противный берег с уступистыми борами на косогоре посинел и заугрюмел. Очередная лодка мерно сплывала вниз по течению, волочила за собою поплавь, как связку перламутровых бусин. Редко когда брякнет о бортовину весло, скрипнет уключина, заматерится мужичонко, досадуя на растяпистого неуклюжего напарника, и каждое слово врезается в тишину, будто выбитое зубилом. Теперь, когда заря попритухла и спряталась, перевязала кровавые сгустки свитками лесов, когда излуки реки потерялись, дополна налившись парным молоком, а перьистое небо опрокинулось в шелковые воды, — так именно в эти часы вырвется на просторы плесов сторожкая семга, чтобы чуток передохнуть, западет в укрывища дна, в переборы камешника, прильнет к струйкам гремучих родников, выбивающихся из-под спуда в омута, где копошатся полчища серебристой уклейки, ибо этими устьицами ключей, как множеством благодатных сосцов, и отдает мать-земля сладость грудного млека.
Ныли комары. Васяка сомлел и закемарил, накинув на лицо желтый рокан; рядом на изготовку стояли резиновые сапоги с обтерханным подкладом, желтели роговистые мужичьи пятки с черными разводьями грязи и с налипшей соломенной трухою. Яков Лукич от скуки ковылял от костерка к костерку, что-то выгадывал, выкраивал; его бледное лицо походило на морщиноватую весеннюю картофелину. Но и сон блаженного, и непутняя на первый взгляд стариковская бродня по берегу были необходимой частью рыбацкой затеи, как бы входили в заведенный от предков чин, похожий на солдатский устав. Промысел не терпит мельтешни и боится сглаза. И лишь Ротман не знал, куда приложить силу, она оказалась здесь бесполезною, и стихи отчего-то не вывязывались в голове, и мысли были подобны вороху листьев.
Яков Лукич вернулся к своей лодке, бесцеремонно пнул сына в бок:
— Вставай, лешак…
— А что? А что? — вскинулся Васяка, тараща окуневые глаза.
— Да что-то евреец наш увял, — сказал Яков Лукич.
— Детки — не коклетки, кого хошь заездят. — Васяка подоткнул окутку под бок, выжидательно уставился на Ротмана, в розовом взгляде была усталость от прошлой попойки, тоска и крохотная надежда на опохмелку. Ведь батяня посылал зятелка за бутыльком, так неужели, скупердяй такой, пожалился, не захватил с собою? — Ты бабу поверх себя не попускай, слышь-ко? Потуже хомута станет.
— Баба — элемент сволочной, — поддержал Яков Лукич сына. — Рыба посуху не ходит, баба с воздуху не родит…
— А Богородица? — возразил Ротман, внезапно повеселев. Он чуял, куда гнет тесть, но решил поддразнить старика.
— Ну, это когда было. От скуки придумки, от тоски прихилки… Ага. Бабу, прежде чем родить, надо мужиком покрыть. — У старика примолвки рождались сами собою, без напряга ума. Верно, когда-то хвалился Яков Лукич: де, мог стихи строчить мешками, только плати сдельно и аккордно. — Побойся грядущего сраму, не вороши бабу спьяну. А не то на Русь налезет всякая гнусь. От врага отобьюсь, но вот гнуса боюсь и от страху упьюсь… Ну что, наш евреец, доставай бутылеец. Не томи!
— А то и я ус…сь, — добавил Васяка, беззубо щерясь, и на обугленном лице его родилась мгновенная злоба. — Терплю, терплю да и лопну.
— Незакоим и живешь, гнусь. Пустой ты человек, — вдруг оборвал сына Яков Лукич.
— А ты меня не вошкай, кособокий.
— Иль не отец я тебе? У меня не заржавеет. Могу и пригнетить, и удавить, как Тарасушка сына гугнявого своего.
Неожиданно затеялась свара; прошлое вино осело в омутах желудка и, заведя там квашню, просило новых дрожжей. Далее томить родичей было опасно. Ротман добыл из кошелки долгожданную тару. Васяка сощелкнул железным ногтем бескозырку, не успев даже подивиться древности бутылки; из каких времен, из каких чуланов вдруг угодила желанная в объятия рыбака? Ах ты, красавушка, давай почеломкаемся. Васяка поцеловал бутылку, хотел хватануть водчонки прямо из горла, но старик на удивление ловко выдернул стеклянку, достал из кармана складной пластмассовый стопарик.
— Не будь скотиною, Вася. Тут люди культурные, обходительные, не наших кровей. А ты слюнявишь… Прими, наше благородие, стаканец и не будь упрямец. — Яков Лукич протянул емкость зятю, но тот с испугом загородился, капризно скривил точеное, с синевою в обочьях лицо. — Ну что ты, сынок? Рыба посуху не ходит. Не тормози наше предприятие. Не тяни, милый, уже наша очередь приспела.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: