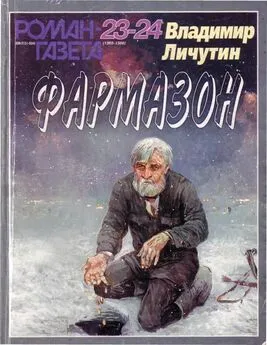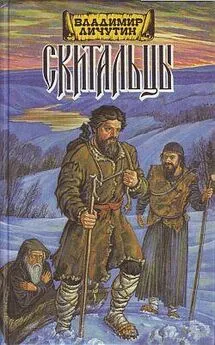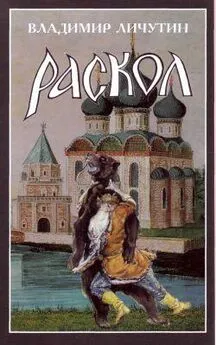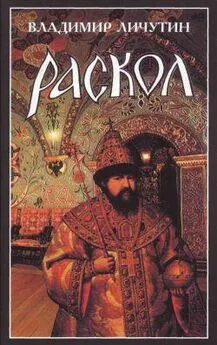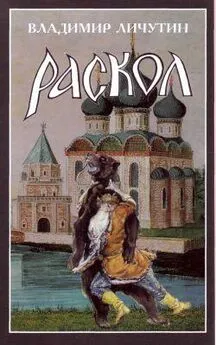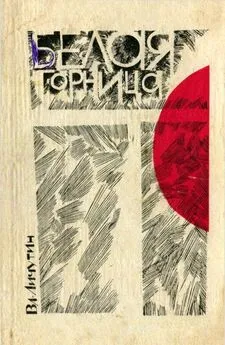Владимир Личутин - Миледи Ротман
- Название:Миледи Ротман
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Роман-газета
- Год:2002
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Личутин - Миледи Ротман краткое содержание
Известный русский писатель Владимир Личутин, автор исторической трилогии «Раскол», в своем новом историческом романе обращается к современной и острой теме тех семейных отношений, когда, по словам Л. Н. Толстого, каждая несчастливая семья несчастлива по своему. Автор создает яркий, глубоко психологический образ современной «мадам Бовари», женщины, искренне стремящейся любить и быть любимой. В основе поведения героев романа, их поиска места в жизни — психологический надлом, потеря нравственных ориентиров, ощущение одиночества. Яркими штрихами передана острота споров о происходящих в России событиях, о перестройке, которая черной полосой прошла через судьбы героев. В этом романе есть и мягкий теплый юмор, и жестокая ревность, и драматическая любовь. Книга написана живым, неповторимо сочным «личутинским» языком.
Миледи Ротман - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Эх, несчастный, и пошто ты теребишь мне душу? Иль я не потерялся на росстани дорог, случайно занесенный в этот мир, и не знаю, куда двинуть, чтобы найти успокоения? Вот и меня-то не пнет разве ленивый. Предлагаешь кому купить работу за десятку лишь, а словно бы протягиваешь руку за милостыней, и таким холодным взглядом окатят тебя, что кажется, прожгут до самых печенок. Ну и что? Зажму в груди гордыню и лечу домой по Слободе, чтобы никого не видеть и не знать. Закроюсь на крюк да и мечусь по берлоге, бормочу что-то, говорю сам с собою, словно сошедший с ума, и столько горечи выльется из груди, что весь мир можно затопить ею до макушки. А то и падешь на кровать, да после и всплачешь, никем не понятый, никому не нужный, и такая жалость по себе обоймет, что впору веревку на шею вздеть. Ино и взвыл бы по-волчьи, да стыд мешает; и день, и другой жжешь этот дресвяный камень, калишь в груди, пока не рассыплется в прах и не источится вон с дурнотою пережитых чувств… Эх, псишко дорогой, братья мы с тобою по ярму; и пригрел бы, приголубил, да вот сам питаюсь из чужой горсти, не зная, что день грядущий мне поднесет. Ступай, милый, прочь, не позывай меня на жалость, не трави душу; пошарь-ко лучше по дворам и заулкам, вдруг и выдернешь ненароком кость из чужой миски, только берегись, как бы не намяли тебе шею да не выгрызли боки…
Так размышлял Братилов, набрасывая на картонке сиреневое облако задымившегося ивняка, и соломенные хохлы болотной осоты, и черную собачью морду с белой отметиной, с гармошкой морщин на высоком лбу, и два карих крохотных, глубоко посаженных глаза, на дне которых остоялись недоумение и обида на все человечество.
… Брюхо добра не помнит, ему все есть подавай.
Из кипы почеркушек выдернул пару картонок, подумал и из-за дивана, как из скрытни, добыл еще одну; изба, заваленная снегами, написана в подробностях. Ничем не примечательный домишко в одно жило, с косыми наличниками, с ярко-голубой дверью и с геранью в окне. Митя Вараксин просил написать его житье, да все никак не выкупит работу, де, нет денег. Может, и так. Но на бутылек всегда у него сыщутся рублики, на рюмку горькой всегда приготовлен троячок. А ведь два дня писал, весь измерзся, чуть «гриба» не схватил и только баней спасся.
Завернул этюды в газету, сунул в зеленую клеенчатую сумку, так знакомую в Слободе каждой собаке.
Еще потемок нет, но уже засумерничало и кротким покоем обложило окраины городка, и сам воздух, дотоль запашистый, ненадышливый, сладимый, как-то сразу выстудился, будто из сырого погреба, открытого на пресушку, потянула гнилая струя. Попадает Братилов с промыслом по Розе Люксембург, размышляя, куда бы сразу верно направить стопы, чтобы поймать удачу; ежли вскочишь в крайний вагон, не промахнешься, то и везде после выпадет удача. Такой закон жизни. Лишь бы бабу с пустым ведром не встретить, мужика с метлою и девку с помоями. Обдаст из таза — не утрешься. Откуда тогда ждать доходов?..
Издали увидал тетю Анфису, хотел нырнуть от нее, да не успел. Идет по мосткам строевым шагом, в плюшевой вечной жакетке, сохранившейся еще от войны, востроносая, глаза темные, цепкие, недоверчивые. Заметила угол картона в знакомой зеленой сумке и сразу все поняла, усмехнулась:
— Опять рыщешь, кому бы продать?
— Ну, ищу…
— Ох, парень, шел бы ты на работу. Чего не устраиваешься, скажи? Хватит шары в кармане катать. Себя старишь и детей малишь. Ты пошто, злодей, работу не ищешь? Здоровый парень, видом продать, и без семьи. И-эх! Тьфу на тебя!
— А я что, не работаю, по-твоему, да? Ты откуда взяла, что не работаю? Тетя Анфиса, ты зря со мной так разговариваешь, — с полуслова завелся Алексей, вскипел и, не слыша себя, закричал на всю улицу: — Только вы работаете, а я груши околачиваю, да? Постояла бы на морозе весь день, сопли на кулак помотала бы, иль под дождем!..
— Успокойся. Чего такого сказала, — поджала тонкие губы. — Работал бы, дак на хлеб всегда имел.
— Я спокоен, как покойник на похоронах.
— Ну и ладно… Зашел бы когда. Камбалы насыплю. Оголодал ведь.
— Ладно, — буркнул Братилов, пряча глаза. Удаляясь, подумал: «И чего заершился? Добрая тетя, хорошая, всегда поможет, не даст ноги протянуть».
Мерзлым высоким крыльцом поднялся в продлавку. За прилавком щекастая Тоська, на лице будто розы цветут, грудь — как буфет, вернее, две подушки: на одну голову уложил, другою сверху прикрылся — и спи-почивай. Бывалоче, за одной партой сидели, и была у Тоськи желтая рахитичная шейка, волосы туго сплетены в два мышиных хвостика, и щеки серой пылью присыпаны. Подмешали в тесто доброй муки, дали выстоятся в тепле, и вот на дрожжах разнесло бабу. Вылитый кустодиевский тип с картины «Чаепитие купчихи». Сразу в который раз оценил Братилов Тоську, состроил умильную котовью гримасу, и серые пушистые глаза его залоснились, и слюнка пол усами натекла. Облизнулся, сделал коварный выпал рукою, словно бы собрался цапнуть бабу за пудовую титьку. Тоська погрозила пальцем, подобрала пунцовые губы в постный бантик:
— Кушать хочется?
— Очень хочется… Купи. — И без проволочки достал из сумки картонку. — Искусство, смотри, какая красота, севером пахнет. Живешь как мышь в крупе, среди мешков и кадей. Дома ляжешь на диван, сбоку мужа положишь и гляди себе на лес. Все тридцать три удовольствия. И любовь, и грезы…
— Ой, Алешенька, да твоей стряпни уж и весить-то некуда. Все стены завешаны.
— Ничего, собирай пока, это капитал на будущее. Великим стану, будешь продавать. Пять тысяч баксов за штуку. А то и пятьдесят. Поедешь на Канары, там пухлых любят, мужа пинком под зад, заведешь себе француза… Бери, даром отдаю. Ну, за двадцатник всего.
Тоська приценивалась к картине, как к эмалированной кастрюле: прищурившись высматривала, нет ли изъяна, скоркала ногтем краски Братилов чувствовал, как голову заливает дурная муть, боялся взрыва, сердечной смуты, негодования и сплошного крика, который долго будет стоять в ушах. Крепился из последней силы, ухмылялся, цедил длинный сивый ус, мотал на палец и подергивал вместе с губою вниз. От боли очухивался.
— Десятка устроит?
— За пятерку возьму, пожалуй, — деловито добила сговор Тоська, кинула на прилавок смятую бумажонку, словно от сердца оторвала.
Отступать Братилову было некуда. Плюнешь против ветра, лишь себя накажешь. А как бы хорошо порвать ее на клочки, эту треклятую пятерку, развеять по магазину, а еще лучше — кинуть Тоське в лицо: де, вот вам ваша милостыня, подавитесь ею. Два дня торчал на морозе, как волк, трясся за этюдником, дыханием своим нагревал застывшее масло, костер палил, ознобил руки и ноги. И вот платою за искусство бутылка водки.
… Несчастный провинциальный художник, угодивший в расцветающий демократический сад, по которому текут молочные реки с кисельными берегами. Да вот не подступись к ним, ототрут плечом да еще и лещей наподдадут под микитки. Как все унизить тебя хотят, стоптать под ноги, будто старую ветошь; опустили глаза в корыто и ну чавкать да подхрюкивать; забыли, лихостники, что живут посреди неумирающей красоты. Гос-по-ди, дай вразумления и силы!
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: