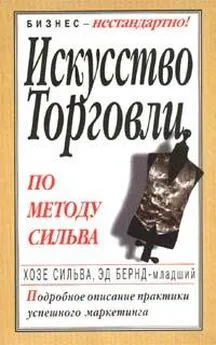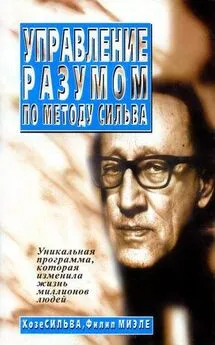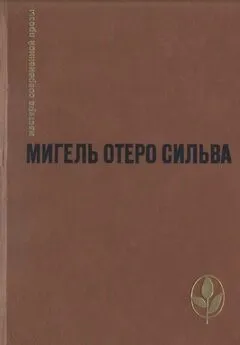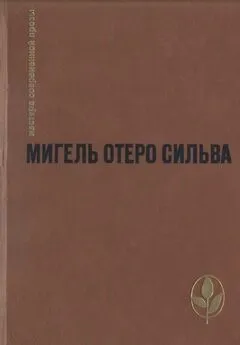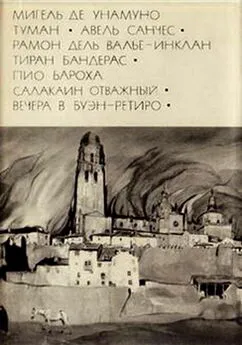Мигель Сильва - Пятеро, которые молчали
- Название:Пятеро, которые молчали
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Азбука-классика
- Год:2002
- Город:СПб.
- ISBN:5-352-00282-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Мигель Сильва - Пятеро, которые молчали краткое содержание
Венесуэла времен диктатуры Переса Хименеса. Пятеро в одной тюремной камере. Пять потоков жизни, непохожих друг на друга. Живой, смекалистый, не очень-то образованный Бухгалтер; представитель столичной богемы, остряк Журналист; проникнутый высоким чувством дисциплины военный — Капитан; целеустремленный, с очень чистой душой, аскетичный Врач-коммунист. Эти четверо, хотя и в разной степени, но так или иначе были связаны с антидиктаторским движением. И только пятый — Парикмахер, простоватый малограмотный парень, попал в тюрьму по сущему недоразумению.
В каждом из этих пяти людей скрыт неповторимый, ему лишь присущий мир. Пятеро по очереди рассказывают друг другу о себе, а одновременно с этим течет их молчаливая исповедь, поднимаются из глубин памяти потаенные воспоминания.
Отеро Сильва наряду с Астуриасом и Карпентьером, Варгасом Льосой, Гарсиа Маркесом и Кортасаром определяют линию латиноамериканской прозы 50-60-х годов XX века. Роман «Пятеро, которые молчали», созданный четыре десятилетия назад «по горячим следам» — сразу после падения диктатуры Переса Хименеса в Венесуэле, — не оставляет равнодушным читателя и сейчас.
Пятеро, которые молчали - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
(Женщины моего дома, невзирая на мои протесты, отдают свои многомесячные сбережения, чтобы отметить окончание мною университета. В садике над папоротниками одна за другой летят пробки из двенадцати бутылок настоящего французского шампанского, что приводит в изумление гостей — моих товарищей по курсу и моих двоюродных братьев. Желтая лента через грудь, свисающая с нее золоченая медаль и диплом с безукоризненно выведенными именем и фамилией свидетельствуют о том, что государство отныне разрешает и одобряет мою практику в области медицины. Празднество в домашнем кругу, слишком сдержанное, приходится не по вкусу моим шумливым друзьям, они стеснены благопристойной обстановкой и уходят ранее намеченного, наверняка проклиная шампанское, для них — это микстура, настой лекарственных трав. Двумя неделями позже я уезжаю на работу в глухое провинциальное селение и вскоре убеждаюсь, что профессия врача никогда не принесет мне капитала: мне как-то неловко брать гонорар с больных. Я уже не говорю о бедных, с них я, разумеется, не беру ни сентимо — но и с более или менее обеспеченных пациентов не беру, а если и возьму, то лишь когда они настаивают, да и то самую пустяковую сумму. В селении нет членов нашей партии, и мои усилия сколотить там ячейку ни к чему не приводят. Единственный, кто выслушивает не моргнув глазом мои идеологические высказывания, это аптекарь, но и тот под конец Обезоруживает меня откровенным признанием: «Ваши взгляды очень интересны, доктор, но мне больше нравится анархизм». Здесь я убеждаюсь в прописной, но от этого не менее глубокой истине: медицина познается не по книгам, а у постели больного. Анхелина работает в клинике, в Каракасе, и дважды в месяц пишет мне письма, где сообщает о положении в стране, об успехах партии. В конверты она вкладывает вырезки из газет, а заканчивает свои послания волнующими намеками. «Примите поцелуй, коллега, и не забывайте, что я жду вас с женским нетерпением, чтобы с вашей помощью разрешить мои некоторые личные проблемы». От этого стиля меня не сколько коробит, но я не решаюсь упрекнуть Анхелину, — опять она будет высмеивать мою сентиментальность».)
— Камеры подвала представляют собой пещеры, вытянувшиеся в ряд с одной стороны коридора, ширина которого не более метра. С другой стороны коридора поднимается стена. Агенты заперли на замок мою камеру, первую в ряду, и один из них предупредил надзирателя: «Строжайший приказ — не давать этому заключенному ни глотка воды, ни крошки хлеба!» Затем крикнул, обращаясь к соседним камерам: «Кто попытается передать этому заключенному еду или питье, тот подвергнется такому же наказанию, какое испытал он». Я сделал вывод, что во внутренней тюрьме, кроме меня, были другие заключенные. Выждав, когда агенты уйдут, я подполз к решетке и сказал громко: «Меня зовут Сальвадор Валерио. Если кто из вас выйдет отсюда живым, расскажите моим товарищам, что я умер с честью, не сказал под пытками ни слова». Никто мне не ответил, только надзиратель с издевкой буркнул: «Заткнись, дурья голова!» Я лег лицом на пол и попытался уснуть. Погружаясь в сон, я чувствовал, как зубчатые рейки наручников впиваются в запястья. Но истощение и страшная усталость брали свое, и, несмотря на боль, я забывался несколько раз в кошмарной дремоте, а когда приходил в себя, то обнаруживал, что стальные зубья впились в тело еще глубже. Я потерял счет дням и неделям, помнил только месяц.
— Какой месяц был? — спросил Парикмахер.
— Ноябрь, — ответил Врач. — Погода стояла прохладная. С вечера я начинал дрожать от холода, а скорее — от озноба. Стучал зубами всю ночь до утра. Утром солнце разливалось по стене ярким пятном, тепло от его отражения проникало в мою камеру, и я переставал дрожать. Но страшнее холода были ночные битвы с крысами, обитавшими неподалеку, очевидно, в загрязненной нечистотами реке. К вечеру они пробирались по сточным трубам в здание и заползали в камеру — их влекли мои кровоточащие, гноящиеся раны. Эти огромные зверюги, длинномордые, щетинистые, разжирели на отбросах и падали. Я прилагал все усилия, чтобы скрыть от их горящих глаз, оградить от их острых зубов раны. Я ложился вниз лицом, прижимался животом к полу. В таком положении запоры наручников, словно лезвие рубанка в древесину, входили в ткани предплечья, и это вызывало столь нестерпимую боль, что я почти не чувствовал, как крысы кусали мои искромсанные ступни.
(Я возвращаюсь в Каракас и открываю консультацию в том же квартале, где помещается наш районный комитет. Женщины моего дома вышивают скатерти для приемной, мой врачебный диплом вывешивают в золоченой рамке рядом с портретом отца. Мои первые пациенты — бедняки из соседних домов и партийные товарищи. И тех и других я, разумеется, лечу бесплатно. И те и другие хвалят меня, где только можно, за бескорыстие, а заодно — так уж устроены люди — приписывают мне исцеление неизлечимых недугов и, к моему искреннему огорчению, создают славу какого-то чудодея. Словно я знахарь, а не врач! Одно утешение: среди десятков страждущих, потянувшихся ко мне «на исцеление», немало вполне обеспеченных людей. Им-то я с чистой совестью могу посылать счета за лечение. Одновременно меня выдвигают по партийной работе, называют мое имя как имя кандидата в члены Центрального Комитета партии. Некоторые товарищи недовольны моими критическими выступлениями на собраниях. Действительно, я не устаю напоминать, что дело революции требует труда и дисциплины, что членство в нашей партии несовместимо с убиванием времени в игорных домах, ресторанах и прочих сомнительных местах. За критику я приобретаю репутацию «сухаря и пуританина». Что ж, репутация в известной степени справедливая, и она мало тревожит меня. Во всяком случае, значительно меньше, чем другая — медика-исцелителя. Я всего-навсего средний, рядовой терапевт и возвращаю здоровье лишь тем больным, чьи недуги вполне излечимы средствами современной медицины.)
— И все же страшнее ночных ознобов, страшнее крыс и зловония экскрементов, пропитавшего камеру, была жажда. Она душила мою глотку, эта лиана с острыми шипами, она высушила слюнные железы, она рисовала на стене странные фигуры и приводила их в движение, она сделала мой язык тяжелым, словно язык церковного колокола, превратила его в неуклюжую огромную чушку, и эта чушка давила на зубы, не помещаясь во рту.
Журналист поднялся — темное пятно пота натекло под ним на полу за это время — и до конца рассказа стоял, скрестив руки на груди.
— Как-то ночью, — продолжал Врач, — пошел сильный дождь. Я слушал — не ушами, нет, а выжженным жаждой языком! — слушал и слушал частый стук капель по навесу, по стене. Дождь шел долго, бесконечно долго, несколько часов подряд, и вот наконец, когда рассвело, в углу под сводчатым потолком робко показалась тоненькая струйка воды и медленно поползла по стене камеры. Я подполз к стене, подставил рот и поймал на язык несколько капель. Вода, проникшая сквозь слой извести, была горько-соленой и не только не утолила жажды, но распалила ее еще больше.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: