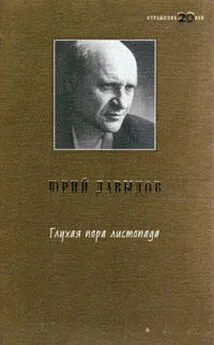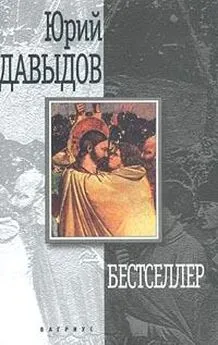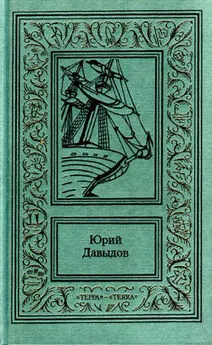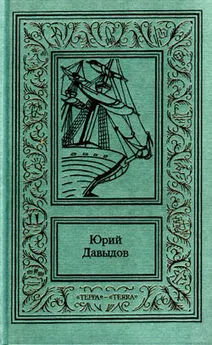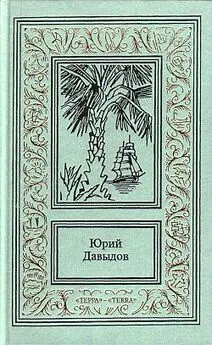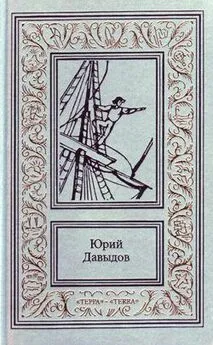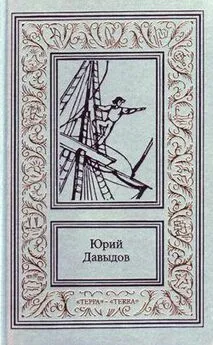Юрий Давыдов - Соломенная Сторожка (Две связки писем)
- Название:Соломенная Сторожка (Две связки писем)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советский писатель
- Год:1986
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Юрий Давыдов - Соломенная Сторожка (Две связки писем) краткое содержание
Юрий Давыдов известен художественными исследованиями драматических страниц истории борьбы с самодержавием и, в особенности, тех ситуаций, где остро встают вопросы нравственные, этические. Его произведения основаны на документальных материалах, в значительной степени почерпнутых из отечественных архивов.
В настоящем издании представлен полный текст романа, посвященного в основном выдающемуся русскому революционеру Герману Лопатину.
Соломенная Сторожка (Две связки писем) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Облачившись в армейское – отставной офицер, надев дворянскую фуражечку с красным околышем, прихватив башлык и бурку, ставропольское наследство, и револьвер, еще ни разу не пальнувший в живую мишень, пустился Герман в уездный град Кадников. И опять была чугунка, и опять были кони. Чугункой из Питера в Москву, из Москвы в Ярославль. Оттуда лошадьми: еще не проложили на Вологду узкоколейку, а катили, как встарь, трактом.
При въезде в Вологду на верстовом столбе значилось: «4221/2» – счетом, стало быть, от белокаменной. А далее тракт шел через Кадников на Архангельск.
Полегоньку смеркалось, когда тройка, нанятая в Вологде, проделав полпути, проезжала деревню, – серые, большие, неуклюжие избы без труб топили по-черному. И ни деревца перед избами, ни садочка, так гольем и стояли – здешние любили кругозор. Оттого и любили, что простирались окрест необъятные темные ельники, прореженные боровыми соснами.
Кадников нехотя посветил огоньками. Будто и не уездный, а все еще пустошь. Безлюдно было, под снежным настом глухо постукивали тесины, устилавшие Дворянскую, по Дворянской проходила городская часть тракта.
Окнами на тракт глядело жилье Лаврова. Но Герман – мимо, мимо – на постоялый, что близ Соборной, и сразу ж очутился в людскости, запахе навоза, овчины, сена: ночевал архангельский обоз с соленой треской и мороженой сельдью. Рассупонившись, угревшись, мужики хлебали овсяную кашицу, по-здешнему, по-кадниковски, смех сказать, прозывалась она щами. А настоящих-то щей не дождешься. Про овощ и вовсе не заикайся, одна репа. И сушеная, и пареная – на любой, хе-хе, скус… Посмеивались мужики, хлебали «щи», пили полугар, не оставляя на донце «постельку», как положено гостям не допивать досуха, к удовольствию хозяина с хозяйкой, – они, обозные, не в гостях, они тут за все – до копеечки.
Их благородие провели в господский номер. В номере как будто припахивало свежим огурцом. Любой кадниковский житель тотчас определил бы, что в номере для господ проезжающих отдает давлеными клопами. Впрочем, их благородие не особенно принюхивались – на короткий постой встали.
Сюда, на Соборную, Герман свернул ради обманного маневра, чтоб и ямщику невдогад. Все надо было свершить в день, другой, не больше, все зависело от быстроты, поворотливости, натиска… Герман посидел, покурил, дорожная усталь боролась с нетерпением поскорее переговорить с Лавровым. Было уже около десяти, когда Лопатин, неприметно покинув постоялый двор, отправился на Дворянскую.
Отворив дверь, Лавров чуть не весь дверной проем заслонил своей высокой, вровень с Германом, осанистой фигурой. Увидев нечто офицерское, холодно вопросил сочным, барским голосом: «Что вам угодно?» Услышал: «Я – Герман Лопатин. От Мани. От Марии Петровны. Из Петербурга».
Все дальнейшее развернулось стремительно.
Правда, поначалу вышла заминка, явились двое чиновников. Не то чтобы нежданные, к Лаврову нередко наведывались побеседовать, однако сейчас весьма нежеланные, особенно ежели взять в расчет кадниковское пристрастие к долгим чаепитиям. Приезжий молодой человек, разумеется, возбудил острое любопытство. Герману пришлось нести околесицу; он это, признаться, умел.
На белом, как пудреном, лице Лаврова с рыжими, нехолеными усами и такой же бородой, в глазах, голубовато-серых, выпуклых, утомленных, проступило выражение болезненное. И хотя Лавров со свойственной ему любезностью задавал Герману вопросы своим широко грассирующим голосом, нетрудно было определить, что Петру Лавровичу не по себе.
И тут подоспела на выручку его матушка, старушка лет восьмидесяти, очень бодренькая, очень сухонькая. «Петрушенька, – сказала она мелодичным, как флейта, голоском, – не мигрень ли напала, миленький?» Худого не заподозрив – Петр Лаврович страдал головными болями, – гости убрались.
Выслушав Германа, Лавров не колебался:
– Согласен ехать хоть сию минуту!
То-то бы удивился шеф жандармов Шувалов. Граф судил о бывшем полковнике артиллерии как о беспомощном рохле, почти как о штафирке. Еще бы: Лавров, в сущности, никогда в строю не служил, преподавал в Михайловской артиллерийской академии высшую математику да статейки пописывал – это ли военное поприще, предполагающее бравость? А Лавров… Если и была в нем беспомощность, то житейская, пустячно-практическая. И если казался он уступчиво-мягким, то оттого, что был старомодно-любезен.
Не мешкая, обсудили «заметание следов»: едва покинут Дворянскую, Елизавета Карловна запрется накрепко, никого не пустит; «Мигрень у Петруши, ужасная мигрень». Вечерами надо держать в комнате зажженные свечи – парочка алгвазилов, приставленных к ссыльному, останется в благой уверенности: господин Лавров сидят-с за книжками, охота пуще неволи, вконец глазоньки утупят… Ну и конечно, заключил Герман, недурно б испечь на дорожку пирогов-рыбников. Старушка весело приговаривала: «Ах, как славно! Ах, как славно!.. Но я вас очень, очень прошу, милый юноша, вы уж за Петрушей присмотрите, пожалуйста».
Выходило гладко. Одно обстоятельство, однако, тревожило Петра Лавровича: после его исчезновения не приключатся ли какие-либо неприятности с матушкой?
– И-и, оставь, пожалуйста. – Старушка тихонечко рассмеялась. – Разбойники-то они разбойники, да что ж с меня взять? Ты вот только потом извести, где тебя найти, куда ехать.
– А куда бы вам хотелось?
– В Париж, – сказала она мечтательно, – в Париж.
Чуть не за полночь Лопатин вернулся на постоялый двор. Там уже слышался могучий храп ночлежников да сонное посапывание лошадей.
Весь следующий день (вдруг сильно нажал мороз, хоть уже и март близился) Лопатин не высовывался из своего «нумера», он сказался больным. Хвороба постояльца нимало не опечалила хозяина: поденная плата была получена вперед, что случалось не чаще престольного, а теперь вот наклюнулась и сверхприбыль, ибо как же не потчевать их благородие и клюквенным кисельком, и рыжичками, и малинкою, и винцом?
Поздним вечером вызвездило щедро, ясная луна опоясалась тусклым лунником. У, как погнал ямщик! Тени летели рядом, звезды будто с цени сорвались, на полях осиннички возникали и пропадали, опять смыкался лес, и опять дорога светлела. Герман тесно сидел с Петром Лавровичем, был тот огромен в огромной медвежьей шубе с поднятым воротником. У, ямская гоньба, лихое дело, знай не задремывай, того гляди, вывернет… Не вывернуло!
В Грязовце, на станции, пока перепрягали, наткнулись на жандармского полковника. То был остзейский немец, бич Вологодской губернии – тощий, сутулый, мрачный, с поджатыми губами, – хоть сейчас на подмостки: вылитый злодей Рауль из оперетки Оффенбаха. Этот фон Мерклин даже и к губернатору приставил однажды соглядатая унтер-офицерского чина. (Губернатор, правда, в долгу не остался: велел городовому, да еще из самых пентюхов, неотступно ходить за господином полковником.) Лаврова жандармский полковник откровенно ненавидел, неустанно изыскивал случай спровадить в еще большею глушь… Ну, минута! Не будь Лавров атеистом, благодарил бы он небеса, ниспославшие Германа Александровича! Это ж ведь Лопатин и гриву обкорнал своему подопечному, и платком на ватной прокладке подвязал так, чтоб бороду не видать, и настрого заказал беседовать со встречными, а лишь постанывать да покряхтывать, как в приемной дантиста. Не опознал его фон Мерклин, серчал на задержку подставы и гремел саблей, как черт кочергой.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: