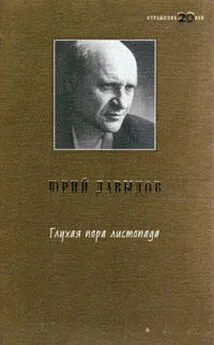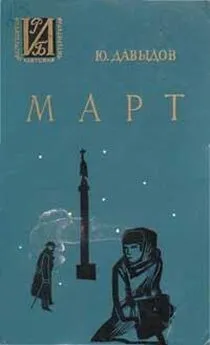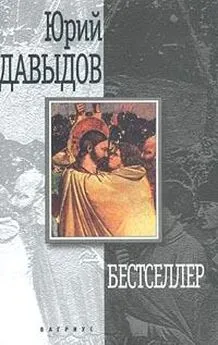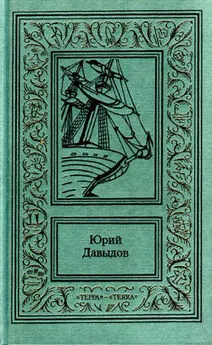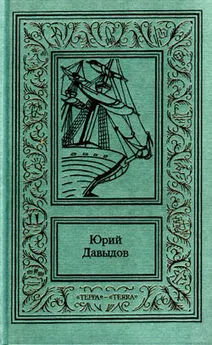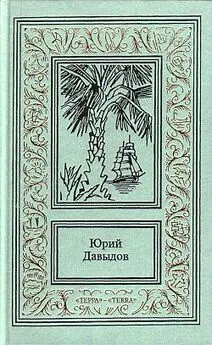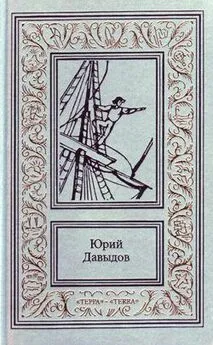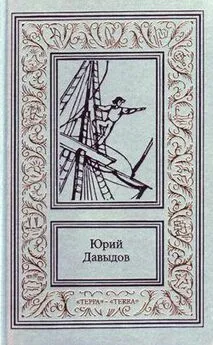Юрий Давыдов - Вечера в Колмове. Из записок Усольцева. И перед взором твоим...
- Название:Вечера в Колмове. Из записок Усольцева. И перед взором твоим...
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:«Книга»
- Год:1989
- Город:Москва
- ISBN:5-212-00113-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Юрий Давыдов - Вечера в Колмове. Из записок Усольцева. И перед взором твоим... краткое содержание
Повесть о Глебе Успенском рассказывает о последних, самых драматических годах жизни замечательного русского писателя. Но вместе с тем она вмещает все его нравственные искания, сомнения, раздумья о русском народе и его судьбе. Написанная ярко, страстно, повесть заставляет сегодняшнего читателя обратиться К нравственным проблемам, связанным с судьбой народа. В книгу включены повесть о русском мореплавателе и писателе Василии Головнине, а также в сокращенном варианте «Дневник Усольцева», ранее печатавшиеся в издательстве «Молодая гвардия».
Вечера в Колмове. Из записок Усольцева. И перед взором твоим... - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Все это Успенский слушал, не перебивая. Слушал, наклоняя голову, не столько «сюжеты», сколько звучание неторопливой, обстоятельной речи, но, когда егерь, упомянув «восемь тыщ», от полноты чувств шмякнул картузом о колено, Глеб Иванович рассмеялся.
Усольцев же прихмурился. Он счел долгом вразумить рассказчика в том смысле, что Николай Алексеевич Некрасов, великий писатель России, добывал хлеб трудом, литературным трудом.
Выслушав наставление, старик надел картуз, ответил серьезно:
– А мы, ваше благородие, им не мешали. Они там, – он через плечо показал на охотничий домик, – запрутся, день не выходят, три, а мы ничего, понимаем, ждем. – Словно бы вдруг что-то сообразив, Сергей Макарович прищурился. – А вы, ваше благородие, старье не покупаете?
– Какое «старье»? – не то удивился, не то обиделся Усольцев.
– А тут вот намедни налетели молоденькие барышни, ну, совсем стрекозки, из самого, значит, Питера. Так они, ваше благородие, за какое-нибудь вышитое полотенце, бросовое, в дырьях– изволь получи полтинник. А бабы-то и говорят: ну, раз за старину принялись, выходит, скоро конец света.
Успенский рассмеялся.
– Нет, мы с доктором совсем по другой статье.
Уже стемнело. Длинный вечер перетекал в короткую ночь. Неподвижные тучки раздумывали, брызнуть ли дождичком или подождать, пока Успенский с Усольцевым уберутся в Сябринцы. Из Чудовской луки послышалась песня.
– Федосья с Маруськой затеплили. Это у них любимое: «Неужели ты завянешь, аленький цветочек?» – Егерь усмехнулся. – Завя-янет.
А Глеб Иванович, вслух повторив «затеплили», тронул Усольцева за рукав: «Как хорошо. Мы бы с вами как? Ну, запели, завели… А то – затеплили. Будто свечки».
– Федосья с Маруськой много песен знают, – отметил старик, – у нас про таких говорят: душа долгая. Да только песни-то с голоду дохнут, скоро и вовсе деревня обезголосит: прет народишко в Питер, на полировку.
Распрощались, как и поздоровались: Глеб Иванович с Сергеем Макаровичем за руку; егерь и доктор – поклонами.
В Сябринцах, в рабочей своей комнате, Глеб Иванович, разбирая старые бумаги, нашел пачку читательских писем, все больше от провинциальных учителей, фельдшериц, статистиков, нашел и тетрадки, исписанные мужиками-грамотеями, а под конец и сочинение какого-то деревенского мальчонки на тему «Наши домашние животные». Тетрадки, письма грустные были, печальные, в надрывах от повсеместной неразберихи, недоли, путаницы. Зато сочинение школяра глянуло глазенками некрасовских деревенских детей, и Успенский опять почувствовал радость и счастье жить. Чувство это возникло еще на первых пешеходных верстах, но сейчас, ночью, когда керосиновая лампа освещала «домашних животных», а тени от ветвей елозили по бумаге, сейчас к радости и счастью жить прибавилась любовь ко всему сущему на свете.
Минуя деревни, шли они берегом широкой реки, направляясь к обширным, верст на пятнадцать, заливным лугам. Оттуда, с лугов этих, где уже завершалась косовица, накатывал дух свежего сена. А по реке тянулись большие порожние барки, готовые поднять не меньше десяти тысяч пудов. Чтобы соорудить эдакую «судовину» – не то чтобы говорил, а как бы повествовал Глеб Иванович – соорудить, а потом и водить через пороги, в ненастья, при ветрах, меняющих направление, тут, дорогой мой, нужны не одни только труд да смётка, нет, сударь, истинное вдохновение требуется.
Рассуждая о сенных барках и «лесных гонках», высказывая множество соображений на сей счет, Глеб Иванович повествовал не без горделивости, будто самолично и «судовины» взбадривал, и плоты сплавлял аж до питерских затонов.
Правду сказать, все это не представляло для нашего медика жгучего интереса. Он слушал вполуха, однако улыбался – никогда в Колмове Глеб Иванович не бывал так светел. Думал же Усольцев о другом. Точнее выразиться, не думал, а недоумевал, отчего же Глеб Иванович так обидно равнодушен к поэзии Колмова.
Недоумение это проистекало из рассуждений Успенского, высказанных до того, как его внимание привлекли сенные барки, и возникших не внезапно, как понимал Усольцев, а в непосредственном соотношении с тем душевным состоянием, которое все сильнее и полнее овладевало Глебом Ивановичем после ночлега в Сябринцах. Внезапности не было, была неожиданность. Но не в том, что о Пушкине отзывался Глеб Иванович без упоения, это еще в Колмове можно было подметить. И не в том, что говорил о Лермонтове, этого в Колмове не замечалось, да и вообще-то никакого разговора не было. А в том, что именно говорил Глеб Иванович.
Пушкин, говорил он, многие струны тронул, очень многие, а ведь даже Пушкину не приходило в голову… У него – «влачащийся по браздам неумолимого владельца». Понимаете? «Влачащийся» раб, в грязи он, в опорках, и Пушкин, несомненно, сострадает, но вот даже и Пушкину невдомек, что мужик-то со своей клячонкой, с сохой, мужик этот способен всей душой восчувствовать… нет, не каторгу, а радость, красоту своего труда на земле. И красоту мира божьего, всего, что вокруг, а вокруг-то, может, суглинок, кочки, ельничек, такое все сирое, и небо-то не блещет, и речонка с осокой… Так, да… А теперь, Николай Николаевич, нуте-с, нашепчите-ка про себя «Когда волнуется желтеющая нива». Хорошо-с! А теперь вдумайтесь, сударь, смысл какой? А такой, стало быть, что наш поэт Бога увидел и начал постигать, что такое счастье… Думаю, такое на каждого находит, случается. Вот и со мной тоже, в Лувре бывало или вот давеча в Сябринцах, когда глазенки детские. А изъяснишь ли? Да что с меня-то взять. А тут – Лермонтов! Так вот, скажите на милость, что такое «Когда волнуется желтеющая нива»? Ну-с, слива, и притом малиновая. Значит, поспевает слива, поспевает, а рядом ландыш красуется. Не какой-нибудь затрапезный, шершавый крыжовник или забубённая бузина, а нежненький ландыш. И все в одну пору – тут тебе слива, тут тебе и ландыш. И росой-то омыты, но какой? – «душистой»; а тень какая? – «сладостная». А освещение какое? – этого не понять, то ль вечерняя заря, то ли утренняя. Те-те-те, сейчас и скажете: «По эзия!» Хорошо, но при чем здесь постижение счастья? Бог-то при чем? Оранжерея какая-то, одеколон, а поэт ничего не постигает душой, он вроде бы высокопоставленную особу зазывает: извольте взглянуть, вот слива-с, а вот сюда, сюда пожалте, вот ландыш… Может и красиво, а за душу не берет. А назову я вам одного лишь, этот и в мужицкую радость проник, и «лоно природы» знает не как случайный прохожий. Знаете кто»? У него все в движении, плечо «раззудись», «рука размахнись», он чувствует, как весело запрягать или борону ладить. Кольцов, прасол Кольцов…
Усольцева неприятно задели не столько суждения о Пушкине, сколько о Лермонтове. Что ж до Кольцова… Читал давно и неохотно, казался умиленно-искусственным. Но все это так ли, нет, а главное в том, что Глеб Иванович, рассуждая о поэзии прозаически, не желает, решительно не желает видеть прозаическую поэзию Колмова, где колонисты-то как раз и счастливы – «размахнись рука», «раззудись плечо». Нет, не хочет видеть.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: