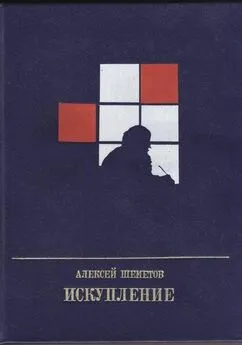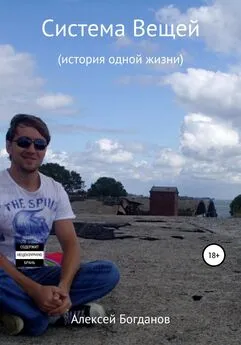Алексей Шеметов - Крик вещей птицы
- Название:Крик вещей птицы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советский писатель
- Год:1990
- Город:Москва
- ISBN:5-265-00657-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Алексей Шеметов - Крик вещей птицы краткое содержание
Повесть «Следователь Державин» посвящена самому драматическому периоду жизни великого русского поэта и крупнейшего государственного деятеля. Сенатор Державин, рискуя навлечь на себя страшную беду, разоблачает преступления калужского губернатора с его всесильными петербургскими покровителями. Радищев и Державин сражаются с русской монархией, один — слева, другой — справа, один — с целью ее свержения, другой с целью ее исправления, искоренения ее пороков, укрепления государства. Ныне, когда так обострилось общественное внимание к русской истории, повести Шеметова, исследующего социальные проблемы на рубеже восемнадцатого и девятнадцатого веков, приобретают особенный интерес.
Тема двух рассказов — историческое прошлое в сознании современных людей.
Крик вещей птицы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— Елизавета Васильевна, а что вы скажете о вашем дядюшке? Он-то отзовется?
— То есть пойдет ли за вами?
— Ну хотя бы как-то откликнется?
— Не знаю, Александр Николаевич. Дядя Андрей любит вас как брата. Вы для него не шурин, а именно брат. Сердцем он добр, да не очень смел. Напугается, если что с вами случится.
— Думаете? Да, может быть, и напугается. Но не отшатнется. Наша дружба испытана временем. Мы ведь сблизились еще в Пажеском корпусе. А там, во дворцах-то, не очень уж много было у меня друзей. Андрюша, Алеша Кутузов, Петя Челищев и Серж Янов. Вы вот говорите о двенадцати. Где, мол, они? Но разве эти четверо теперь не друзья мне?.. А вы? Вы-то и есть самый близкий мой друг. Разве не так?
Она молчала. Угли, грудой алевшие в камине, красновато освещали сбоку низ ее платья и руки с книжкой, опущенные на колени, а лицо уже терялось в сумерках, и не видно было, какие сейчас у нее глаза, все еще неутолимо тоскливые или спокойные. Как, однако ж, странно смотрела она давеча и как жалко смутилась, захваченная врасплох! Что сие значило? Может быть, от сестры передались ей вместе с заботами о семье и все сокровенные чувства, но она их долго сдерживала, а сегодня они прорвались? Не дай бог! Разве можно изменить святой дружбе! Нет, никакая иная близость немыслима. Только дружба.

Он стоял у стены, спиной к книжным полкам, и смотрел на свояченицу издали, не решаясь подойти и утешить ее, по-братски обнять, что так легко и свободно делалось прежде и чему мешал теперь ее давешний взгляд.
— Елизавета Васильевна, вы здоровы? — спросил он.
— А что, я кажусь вам хворой?
— Грустно как-то сидите… Кого все-таки считать мне самым близким другом? Разве не вас, Лиза?
— Я ведь не из двенадцати.
— Ах вот что. Так неужели нам навсегда оставаться в том кругу, в который вошли юнцами? Время отнимает друзей, но оно и дает новых.
— Я не о том, Александр Николаевич. Я об избранниках. О тех, кто жизнью и смертью служит святому делу. А просто друзей у вас ныне не так уж мало. Среди них и всесильный президент Коммерц-коллегии.
— Да, граф Воронцов со мной в дружбе. Никогда не забывает. Сегодня опять прислал письмо. Просит взять под надзор шведский флот. Иногда он доверяет мне даже тайны двора ее величества. Но не разразится ли сей потомственный дворянин проклятиями, когда его друг попадет в Петропавловскую крепость?
— Да не кличьте вы беду-то. Сразу в крепость. Обойдется, может, и без нее.
— Сестрица, милая, уж от тюрьмы-то мне никак не уйти. Не будем это скрывать друг от друга. Хорошо?
Свояченица кивнула головой.
— Надобно готовиться к худшему, — сказал он. — Чтобы потом не растеряться, не пасть перед несчастьем… Книга выходит в самое опасное время. Страна с двух сторон охвачена войной, а с третьей ей грозит французская буря. Правительство в смятении. Боится, как бы не загорелась наша империя изнутри. — Он оперся спиной на книги и скрестил руки, охватив ими плечи. — Знаете, у нас в портовых амбарах загорается пенька. Сама собой загорается. Под тяжестью верхних слоев. Такое может случиться и с Россией. Она ведь не только сдавлена верхними слоями, но и окружена огнем. Правители страшатся малейшей искры. Им всюду чудится бунт. Они вздрагивают и бледнеют от каждого громкого голоса… А императрица спокойна. Спокойна и празднично благостна. Даже ласкова. Ну истинно мать благополучного семейства, а не царица бедственной страны. Самые тревожные донесения не в силах ее смутить. Такова она в окружении свиты, но когда остается одна, бросается в кресло и плачет.
Он редко говорил так связно, потому что давно уже жил больше со своими думами, чем с людьми. Если окружающие, тем паче незнакомые внезапно втягивали в разговор, он вступал в него растерянно и неловко, но стоило ему ухватиться за определенную мысль, она сама находила нужные слова, а воображение являло все мыслимые предметы совершенно зримо, как сейчас вот, когда он отчетливо видел красную от слез императрицу.
— Да, плачет, — говорил он. — Потом утирается душистым платком, садится за стол и пишет. Пишет в Яссы, светлейшему, ободряет его, умоляет воспрянуть духом, собрать все силы и покончить с неуемными турками. Пишет в Ревель, Чичагову, просит его вразумить шведского короля, достойно встретить и разбить его флот. Пишет генерал-губернаторам. Тут уж не просит, а безоговорочно повелевает, приказывает в корне пресечь вредные разговоры в народе и начисто истребить всю крамолу в печати. И сатрапы ее действуют. В Москве прижали Новикова, здесь берутся за молодежь, примяли вот Крылова, опасного юнца. Так скажите, могут ли они простить мне «Путешествие»? Ни в коем случае. И все-таки надобно его закончить и пустить в свет. Надобно, Елизавета Васильевна.
— Ну что ж, Александр Николаевич… С нами Бог.
Лиза положила книжку на каминную доску, нагнулась, отыскала среди поленьев лучинку, поднесла ее к углям, затем поднялась и зажгла свечи на письменном столе, и это значило, что она благословляла друга на окончание тяжкого труда и на великие страдания, и он понял ее, подошел к столу, придвинул стул и сел. Тогда Лиза вдруг склонилась к нему и крепко обняла обеими руками его голову.
— Бог не оставит вас, и я не оставлю, — прошептала она. Потом отпрянула и быстро пошла прочь, так что он не успел глянуть ей в лицо, а, обернувшись, увидел только ее плечи, то есть именно плечи, приподнятые и сдвинутые вперед, бросились ему в глаза. Добрая, несчастная Лиза! Ушла, вся сжавшись, чтобы не разрыдаться. Жалко ее. Жалко детей, всех близких, родных. Ну а тех-то, за кого решил заступиться (их миллионы!), разве не жалко? Столько перестрадал ты, передумал, столько вложил в сии печатные несшитые листы, и вдруг остановиться? Невозможно! Назад хода нет.
Итак, глава следующая. Нет, все еще та же. Тетрадь, переданная путешественнику одним вольнодумцем на почтовом дворе. История цензуры. Европа времен Гутенберга. В Майнце рождаются первые печатные книги, и тут же вскоре появляется и она, цензура, учрежденная архиепископом Бертольдом. Вот завязка трехвековой трагедии. Трехвековой? А где ее конец?
В кабинете что-то звякнуло, Радищев обернулся и увидел камердинера, убиравшего со стола посуду. Тот приложил руки к груди.
— Прошу прощения. Помешал. Там явились ваши таможенные служители. Господин Царевский и те двое, Богомолов и Пугин.
— Где они?
— Наверху. В прихожей.
— Что же ты их там держишь, дружок? Царевского проси сюда, а тех проведи в печатную. Пусть готовятся.
— Слушаю. И мне можно? Делать-то нечего.
— Ну, коли свободен, пожалуйста. — Радищев вернулся к тексту. Так, указы майнцского архиепископа. Это сверено с изданием Гудена, не будем останавливаться. Что дальше? Дальше папа Александр Шестой, развратник, ханжа, возводит надзор за книгами в неукоснительный закон. Ах, тут следовало бы дополнить, да уж стыдно мучить наборщика и печатника, а неплохо было бы все-таки добавить, что Карл Пятый, следуя римскому злодею и властелину, устанавливает строгую гражданскую цензуру, которая потом и распространяется по всей Европе. Ладно, оставим пресловутого Карла, и без него картина ясна. Вот еще целые три страницы о постыдных делах цензуры. Наиболее жестоко свирепствовала она во Франции. Здесь яростно жгла она лучшие книги, бросала писателей в темницы, глушила всякий громкий голос, но желанной общественной тишины, чего так упорно добивалась почти полтора столетия, все же не восстановила, а, наоборот, помогла властям вызвать бурю, в которой и сама погибла… Что, что? Погибла французская цензура? Нет, она еще жива. Если пала старая, то, очевидно, поднялась новая. Надобно внести поправку. Ведь было в печати сообщение (злорадствовали, кажется, «Санкт-Петербургские ведомости»), что Национальное собрание преследует писателя Марата и охотится за ним Лафайет. Прославленный маркиз Лафайет, герой заокеанской войны, ныне начальник Национальной гвардии. В Америке он воевал за свободу, а в Париже начинает ее подавлять. О Франция, ты еще блуждаешь близ бастильских развалин!
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: