Иван Наживин - Душа Толстого. Неопалимая купина
- Название:Душа Толстого. Неопалимая купина
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Мультимедийное издательство Стрельбицкого
- Год:2016
- Город:Киев
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Иван Наживин - Душа Толстого. Неопалимая купина краткое содержание
Близко знакомый с великим писателем, Наживин рассказывает о попытках составить биографию гения русской литературы, не прибегая к излишнему пафосу и высокопарным выражениям. Для автора как сторонника этических взглядов Л. Н. Толстого неприемлемо отзываться о классике в отвлеченных тонах — его творческий путь должен быть показан правдиво, со взлетами и падениями, из которых и состоит жизнь…
Душа Толстого. Неопалимая купина - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
А параллельно с этим он с увлечением продолжает занятия греческим языком, читает в подлиннике греческих классиков и, как всегда, как во всем, увлечение его не знает никаких пределов. «… Как я счастлив, что Бог наслал на меня эту дурь, — пишет он в одном письме. — Во-первых, я наслаждаюсь; во-вторых, убедился, что из всего истинно прекрасного и просто прекрасного, что произвело слово человеческое, я до сих пор ничего не знал, как и все: и знают, но не понимают; в-третьих, тому, что я не пишу и писать дребедени многословной никогда не стану… Гомер только изгажен нашими с немецкого образца переводами. Пошлое, но невольное сравнение: отварная и дистиллированная вода и вода из ключа, ломящая зубы, с блеском и солнцем и даже соринками, от которых она только чище и свежее. Все эти Фоссы [44] Иоганн Фоссе (1751–1826) — немецкий поэт, переводчик.
и Жуковские [45] Василий Андреевич Жуковский (1783–1852) — один из создателей русского романтизма, перевел «Одиссею».
поют каким-то медово-паточным, горловым и подлизывающимся голосом. А тот чёрт и поет, и орет во всю грудь, и никогда ему и в голову не приходило, что кто-нибудь может его слушать. Можете торжествовать: без знания греческого языка нет образования…».
И, опять надорвавшись в этом горении, он почувствовал себя плохо и снова поехал в степи на кумыс, снова с головой окунулся в народную и дикую жизнь. На пароходе он сразу перезнакомился со всеми, спал у матросов на носу, с любовью наблюдал башкиров, «от которых Геродотом пахнет», и русские деревни, «особенно прелестные по простоте и доброте народа». Но настроение его все же первое время было усталое, тусклое, и он не видел, как жалуется в письме к жене, жизни «насквозь с любовью, как прежде». И так ему понравился тот богатый, привольный край, так привлекательны были для него и русские новоселы, и дикие кочевники, что он купил себе там землю и начал заводить хозяйство. И с тех пор стал ездить туда чуть не ежегодно…
В 1873 г. там разразился жестокий голод: засуха убила и посевы и выпасы. Толстой тотчас же ударил в набат, призывая всех на помощь голодающему народу. Правительство было чрезвычайно недовольно опубликованием его воззвания в газетах, но императрица первая дала деньги на организацию помощи, и тогда, разумеется, все недовольные поджали хвост и уже не стали ставить препятствия в деле оказания помощи пострадавшим от неурожая. Толстой сам раздавал деньги пострадавшим, закупал для них хлеб, лошадей, скот, входил во все нужды народа. Графиня деятельно помогала мужу.
Потом и мне пришлось работать на этих голодовках, которые стали там хроническими, бытовым явлением, к которому привыкли. И я хорошо узнал этот когда-то богатейший край. Только сто лет тому назад, как легко можно было убедиться по рассказам старожилов и историческим документам, это был край, изобиловавший рыбой, птицей, всяким зверем, до седого бобра включительно, край с жирным девственным черноземом. Чтобы иметь представление о его богатстве, достаточно вспомнить описание его у С. Т. Аксакова. [46] Сергей Тимофеевич Аксаков (1791–1859) — автор популярных книг «Детские годы Багрова-внука» и «Семейная хроника».
Новоселы впервые направились на эти места лет двести назад. Темное, невежественное крестьянство принялось и здесь не столько хозяйничать, сколько самого себя и Россию разграблять: очень скоро совершенно исчезли с лица земли вековые леса, были истреблены дикие зве ри, реки обмелели, высохли источники, и засуха тут стала постоянной гостьей. Пораженные силой этого девственного полуторааршинного чернозема, крестьяне решили, что удобрять его не надо, и весь навоз сваливали в овраги. В молодости, двадцать пять лет тому назад, я езжал туда на охоту и помню, как поражало меня богатство Заволжья и дешевизна жизни там. У хороших крестьян на гумнах стояли одонья хлеба за несколько лет, гусь или индюк стоили там на выбор 20–25 копеек, а арендная плата, которую брали башкиры за десятину этого дивного чернозема, была 20 копеек в год…
Прошу снисхождения читателя за это невольное отступление: сердце болит при воспоминании об этой халатности, этой преступности старого правительства, которое за двести лет господства в этом крае не успело дать народу ни школы порядочной, ни хозяйственных руководителей. Казенные винные лавки пооткрывали и тут везде, а на серьезное, настоящее дело ни времени, ни средств не хватило.
Кое-как народ справился с бедствием 1872–1873 гг., и Толстой в следующем году снова приехал в свое новое имение. Народ узнал его ближе, полюбил его, и когда он объявил у себя народный праздник и байгу — скачки, — к нему съехались наездники со всей округи и веселый пир продолжался двое суток. И Толстой весь ушел в эту дикую, привольную жизнь: «Я два месяца не пачкал рук чернилами, — пишет он оттуда своим друзьям, — а сердца мыслями». И в другом письме он говорит: «Надо пожить, как мы жили в Самарской здоровой глуши, видеть эту совершающуюся на глазах борьбу кочевого быта (миллионов на громадных пространствах) с земледельческим первобытным, чувствовать всю значительность этой борьбы, чтобы убедиться в том, что разрушителей общественного порядка, если не один, то не более трех скоро бегающих и громко кричащих, что это болезнь паразита живого дуба и что дубу до них дела нет. Что это не дым, а тень, бегущая от дыма. К чему занесла меня судьба туда (в Самару) — не знаю, я слушал речи в английском парламенте (ведь это считается очень важным), и мне скучно и ничтожно было, но что там — мухи, нечистота, мужики, башкирцы, а я с напряженным уважением, страхом вслушиваюсь, вглядываюсь и чувствую, что это очень важно»…
Разъезжая по краю, Толстой по пути навестил как-то очень почитаемого народом отшельника в Бузулуке, в монастыре. Он жил в пещере и многочисленных посетителей своих принимал в саду, под яблоней, которую он сам посадил тут лет сорок назад. Отшельник показал Толстому свою пещеру, гроб, в котором он спал, и большое распятие, пред которым он молился. Эти отшельники, эти гробы при жизни, эта тяга прочь от жизни — черта чрезвычайно русская. В этом уходе от жизни для русской души скрыто какое-то особое очарование, хотя, по существу, все это, конечно, лишь новая форма, новый лик все той же волшебницы жизни… И если отшельник не посеял, то, вероятно, укрепил те семена, которые спали в большой и горячей душе Толстого и которые потом проросли и так властно поманили его в сторону отречения от жизни и всех утех ее, «игрушек», как говорила Софья Андреевна.
XV
А тем временем в нем все более и более накоплялся «сок» художественного творчества, и уже «я подставляю сосуды, — писал он Фету. — Скверный ли, хороший ли сок, все равно, а весело выпускать его по длинным, чудесным осенним вечерам». И сколько очарования не только в уже готовых произведениях его, но и в самой черновой подготовке к ним!.. Прочитайте эту запись:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
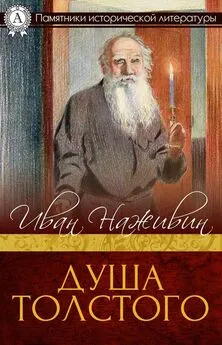
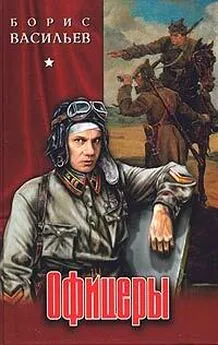
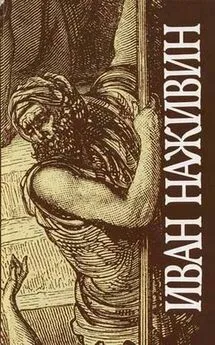
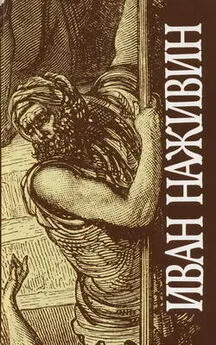

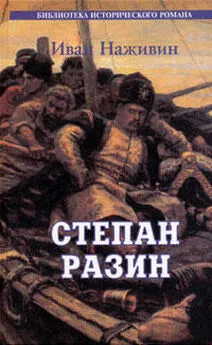
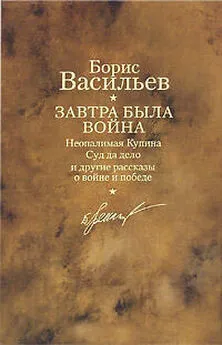
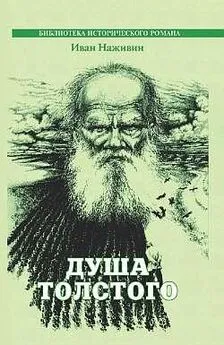
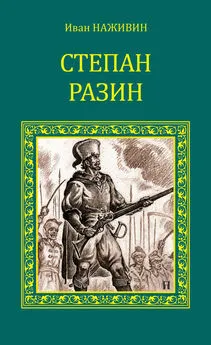
![Иван Наживин - Перун [Лесной роман. Совр. орф.]](/books/1068575/ivan-nazhivin-perun-lesnoj-roman-sovr-orf.webp)