Иван Наживин - Душа Толстого. Неопалимая купина
- Название:Душа Толстого. Неопалимая купина
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Мультимедийное издательство Стрельбицкого
- Год:2016
- Город:Киев
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Иван Наживин - Душа Толстого. Неопалимая купина краткое содержание
Близко знакомый с великим писателем, Наживин рассказывает о попытках составить биографию гения русской литературы, не прибегая к излишнему пафосу и высокопарным выражениям. Для автора как сторонника этических взглядов Л. Н. Толстого неприемлемо отзываться о классике в отвлеченных тонах — его творческий путь должен быть показан правдиво, со взлетами и падениями, из которых и состоит жизнь…
Душа Толстого. Неопалимая купина - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Бондарев совсем не был и не стал толстовцем. Это был ум независимый. Проповедь любви, на которой Толстой базировал все, он, например, смело отвергал и считал лицемерием, а к Новому Завету относился вообще с полным пренебрежением. И Толстой в письме к нему должен был признать, что «любовь без труда есть один обман и мертва, но нельзя сказать, чтобы труд включал в себя любовь. Животные трудятся, добывая себе пищу, но не имеют любви — дерутся и истребляют друг друга. Так же и человек».
Труд Бондарева по цензурным условиям того времени нельзя было напечатать, — он разошелся по России в большом количестве рукописных списков: мысль человеческая все же никак не подчинялась мановениям начальнической руки.
Вопрос о земледельческом труде еще больше приковывает внимание Толстого к земельному вопросу, правильное разрешение которого так важно для устроения жизни трудящихся масс. Решение этого вопроса он нашел у горячо любимого им американского экономиста Генри Джорджа, взгляды которого он начинает проповедывать со все большей и большей энергией. Как известно — или, точнее, как неизвестно, — Генри Джордж выступил с проектом национализации всей земли и единым уравнительным налогом с ее ценности, — по мнению Толстого, выгоды от этой реформы были бы огромны: во-первых, не будет людей, лишенных возможности пользоваться землей; во-вторых, не будет праздных людей, владеющих землями и заставляющих работать на себя за право пользования землей; в-третьих, земля будет в руках тех, кто работает на ней, а не тех, кто не работает; в-четвертых, народ, имея возможность работать на земле, перестанет закабаляться на заводы и фабрики и разойдется из городов по деревням; в-пятых, фискальный аппарат значительно упростится и удешевится, и отпадет целая масса чиновников-дармоедов; и в-шестых, и, по его мнению, главное, люди неработающие избавятся от греха пользования чужим трудом, в котором они часто и не виноваты, так как с детства воспитаны в праздности и не умеют работать, и от еще большего греха всякой лжи и изворотов для оправдания себя в этом грехе, и избавятся люди работающие от греха зависти, осуждения и озлобления против неработающих людей, и уничтожится одна из причин разделения людей.
Не думать на эти темы в России в то время было невозможно: все чуткие люди ясно понимали, что надвигается что-то грозное. И он внимательнее и внимательнее всматривается в народ, в эту стихию, видит и отмечает в своих записях то светлый лик его, то темный. Но темный лик его он по-прежнему старается забыть, не думать о нем. Но и это невозможно: смутные волны моря народного захлестывают все чаще и грознее уютный и нарядный приют Ясной Поляны.
«Дома было много приходивших мужиков, — пишет он из Ясной жене в Москву. — Всегда была бедность, но все эти годы она шла, усиливаясь, и нынешний год она дошла до ужасающего и волей-неволей тревожащего богатых людей. Невозможность есть спокойно даже кашу и калач с чаем, когда знаешь, что тут рядом знакомые мне люди, дети ложатся спать без хлеба, которого они просят и которого нет. И таких много. Не говоря уже об овсе на семена, отсутствие которых мучит этих людей за будущее, т. е. ясно показывает им, что и в будущем, если поле не посеется и отдастся другому, то ждать нечего, кроме продажи последнего и сумы…».
И он ясно чувствует ту беду, которая такой страшной грозой разразилась над нашими головами: «Закрывать глаза можно, как можно закрывать глаза тому, кто катится в пропасть; но положение от этого не переменится. Прежде жаловались на бедность, но изредка, некоторые, а теперь это общий один стон. На дороге, в кабаке, в церкви, по домам — все говорят об одном: о нужде. Ты спросишь: что делать? Как помочь? Помочь семенами, хлебом тем, кто просит, — можно; но это не помощь, это капля в море, и кроме того сама по себе эта помощь себя отрицает: дал одному, трем — почему не двадцати — и не тысяче, не миллиону? Что же делать? Чем помочь? Только одним: доброй жизнью. Все это не от того, что богатые забрали у бедных: это маленькая часть причины. Причина та, что люди — и богатые, и средние, и бедные — живут по-зверски, каждый для себя, каждый наступая на другого. От этого горе и бедность. Спасенье от этого только в том, чтобы вносить в жизнь свою и потому в жизнь других людей другое уважение ко всем людям, любовь к ним, заботу о других и наибольшее возможное отречение от себя, от своих эгоистических радостей. Я не тебе внушаю или проповедую, я только пишу то, что думаю, — вслух с тобою думаю. Я знаю, и ты знаешь, и всякий знает, что зло человеческое уничтожится людьми, что в этом одном задача людей, смысл жизни. Люди будут работать и работать для этого, почему же мы не будем для этого самого работать? Расписался бы я с тобой об этом, да почему-то мне кажется, что ты, читая это, скажешь какое-нибудь жестокое слово, и рука не поднимается писать дальше…».
Об эту пору он пишет «Власть тьмы», свою первую пьесу для театра, если не считать маленьких пьесок, которые он писал раньше для домашних спектаклей и которые так и остались ненапечатанными. Цензура запрещает «Власть тьмы» и для сцены, и даже для печати: «цинизм выражений, невозможные для нервов сцены и т. п.» — таков официальный предлог. Но на самом деле власть все более и более боится растущей популярности странного графа. Запрещение пьесы, конечно, вызывает особый интерес к ней, она пошла по рукам в рукописях, начались «нежелательные толки»; правительство вынуждено снять с пьесы запрещение, пьесу печатают и, благодаря всему этому шуму, превратившемуся в рекламу, она расходится в три дня… Потом ее пропускают и на сцену, но пугаются и снова запрещают. В начале 1887 г., благодаря этому беспрерывному скандалу, пьесой заинтересовался сам Александр III, было назначено при Дворе ее чтение и, когда последнее слово было прочтено, после долгого молчания Александр III сказал:
— Чудная вещь!
Так оценил царь пьесу с ее художественной стороны, но он поразительно не заметил главного, того, в какому ужасе живет его народ.
Разумеется, после этого все стали восторгаться пьесой чрезвычайно, но на сцене она все же могла появиться, несмотря на монаршее восхищение, только много лет спустя: напряженная и страстная борьба глупцов с гением продолжалась. Вообще Толстой становился для Петербурга все более и более нестерпимым, и одного имени его было достаточно, чтобы вызвать там противление, а если можно, то и запрет: продолжая заниматься педагогикой, он просит разрешить ему для опыта заниматься в городской школе с ребятами — разрешения ему не дают. Его дочери открывают в Ясной Поляне школу — ее закрывают, а тульский губернатор, который сочувствовал Толстому, переводится в другой город. Составляет Толстой с огромной затратой сил и времени народный календарь — цензура уродует его всячески, и календарь может появиться только в этом изуродованном виде. В 1887 г. он заканчивает свой большой религиозно-философский труд «О жизни» — цензура сжигает книгу, но она выходит в переводе графини и профессора Тастевен в Париже.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
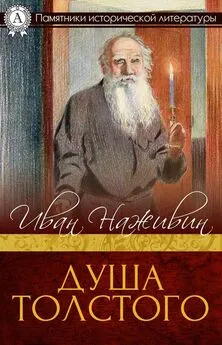
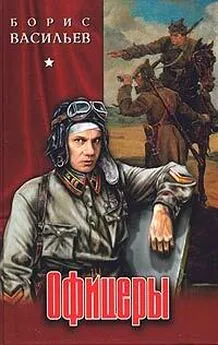
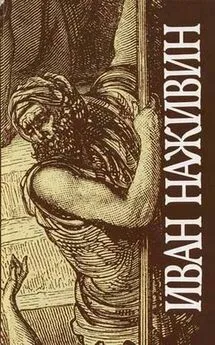
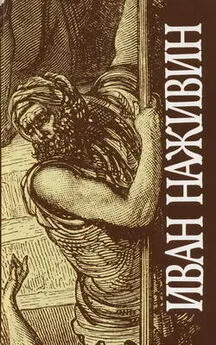

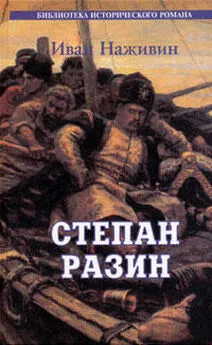
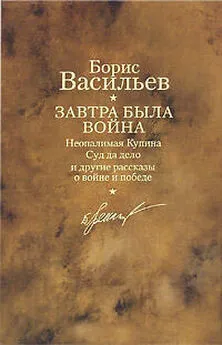
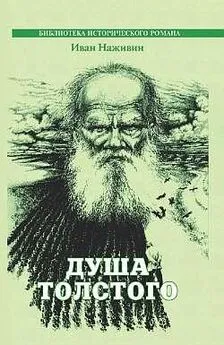
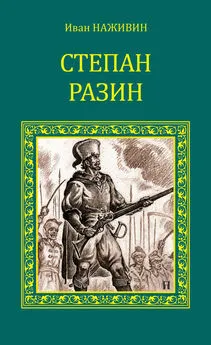
![Иван Наживин - Перун [Лесной роман. Совр. орф.]](/books/1068575/ivan-nazhivin-perun-lesnoj-roman-sovr-orf.webp)