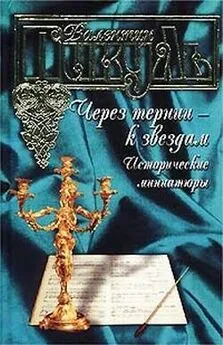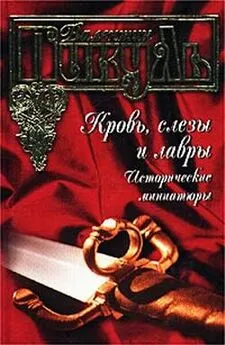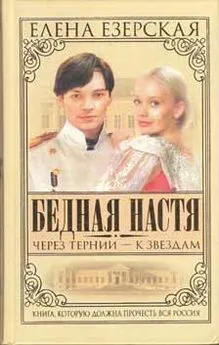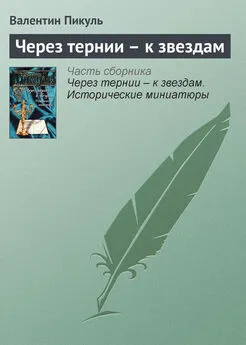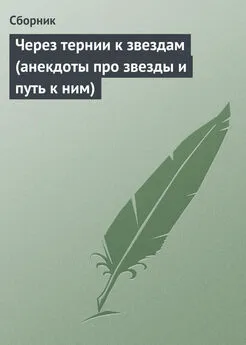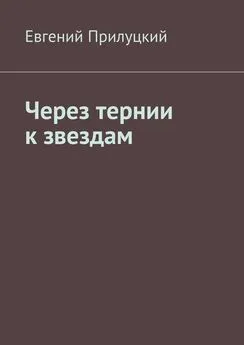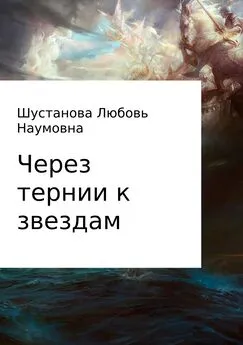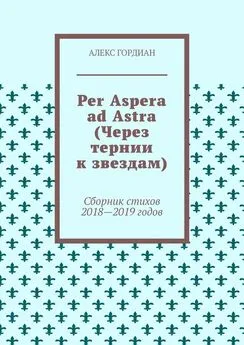Валентин Пикуль - Через тернии – к звездам. Исторические миниатюры
- Название:Через тернии – к звездам. Исторические миниатюры
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:АСТ, Вече
- Год:2002
- ISBN:5-17-010665-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Валентин Пикуль - Через тернии – к звездам. Исторические миниатюры краткое содержание
Исторические миниатюры Валентина Пикуля – уникальное явление в современной отечественной литературе, ярко демонстрирующее непревзойденный талант писателя. Каждая из миниатюр, по словам автора, “то же исторический роман, только спрессованный до малого количества”.
Миниатюры, включенные в настоящее издание, представляют собой галерею портретов ярких исторических личностей XIX веков.
Через тернии – к звездам. Исторические миниатюры - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
– Ты устал? – спрашивала жена.
– Нет. Но, кажется, начала уставать ты.
– Да. Я начала уставать от безмерности своего счастья…
Дом Клодтов был всегда наполнен не только людьми, но и зверями, позировавшими художнику, и, как заметили очевидцы, все звери жили единой дружной семьей, переняв от хозяев лучшие качества доброты и ласки. Один только осел (на то он и осел!) оказался крайне строптивым, он часто убегал из дома, обожая, как ни странно, похоронные процессии с оркестром, которые торжественно замыкал собственной персоной, сопровождая покойников до кладбища, после чего возвращался в свое стойло – как ни в чем не бывало. Однажды, получив заказ на создание фигуры рыкающего льва для украшения генеральского надгробия, Петр Карлович очень переживал, что у него в доме не догадались завести хорошего льва:
– Уж я бы, душенька, в бифштексах ему не отказывал, дети бы его в парк ради прогулок за хвост выводили.
– И не проси! – отвечала Уленька. – Сегодня тебе льва для украшения генеральского праха, а завтра адмирал помрет, так тебе крокодила подавай… Ты сам-то подумай, во что наш дом превратился, гостей к нам и калачом не заманишь!..
Клодт трудился, как раньше, но однажды признался:
– Мозг по-прежнему ясен, руки преисполнены силой, но болят ноги. Очевидно, сырость мастерских все-таки сказалась…
В доме появились первые внуки, и великий мастер засел за сапожный верстак, чтобы шить детскую обувь.
– Как твои ноги? – беспокоилась за него Уленька.
– Болят, – пожаловался он жене, – ходить трудно, а сидя надо что-то делать. Хоть сапожки внучатам…
Но милая, милая Уленька все-таки опередила его.
22 ноября 1859 года она скончалась, ее могилу на Смоленском кладбище украсила лаконичная надпись: “Клодт фон Юргенсбург, баронесса Иулиания”. Петр Карлович остался один.
В ноябре 1867 года задували метели, когда он жил на даче в “Халола” и внучка просила дедушку вырезать ей лошадку.
Клодт взял игральную карту и ножницы.
– Деточка! Когда я был маленьким, как ты, мой бедный отец тоже радовал меня, вырезая из бумаги лошадок…
Лицо его вдруг перекосилось, внучка закричала:
– Дедушка, не надо смешить меня своими гримасами!
Клодт покачнулся и рухнул на пол.
Когда собрались родственники, они застали его лежащим среди вырезок фигур животных, а на сапожном верстаке стояли не дошитые до конца детские башмачки.
Сын Михаил надел фартук и стал снимать маску с лица.
– Тяжкая была работа, – говорил он в старости. – Знаете, отец всю жизнь трудился, как вол, но умер сущим бедняком. Не умел копить. Не умел и не хотел. К славе был равнодушен, а корыстен не был. После него в комоде остались шестьдесят рублей и два лотерейных билета… Нам, Клодтам, пришлось хоронить отца на пособие от Академии художеств.
Все любили супругов Клодтов, а не любили их только клеветники и завистники чужой славы – и не это ли является наилучшей характеристикой для художника и семьянина?
Но, думая о мастере, я всегда ставлю рядом с ним Уленьку.
В старой русской жизни очень много чистых и светлых образов женщин и матерей, которые ничего героического не совершили, но своим присутствием в жизни, своей любовью и лаской умели хранить драгоценное тепло семейных очагов, свято любящие и свято любимые.
В моем представлении, образ Уленьки, как и “Светлана” поэта Жуковского, проплывает в истории подобно легкому светлому облаку. Память о ней я посвящаю Клодтам-художникам, ее потомкам, живущим и работающим среди нас…
Лейтенант Ильин был
Летом 1886 года в России был спущен на воду самый быстроходный в мире корабль класса минных крейсеров. Шампанское обрызгало его острый форштевень, который под звуки оркестров стремительно рассек темную воду, и волна, отраженная от берега, обмыла золотую славянскую вязь его имени: “Лейтенант Ильин”…
Впрочем, среди публики слышались голоса:
– Лейтенант Ильин… простите, а кто он такой?
Это уже не ново, что история умеет прочно забывать.
Но зато история умеет и вспоминать!
Я раскрываю старинную книгу и читаю в ней такие слова:
“Клевета, зависть – вы уже довольно насытились, заживо преследуя почтенного Ильина: прекратите же гонения свои, скройте самих от себя, не беспокойте прах друга души моей!”
Итак, он был гоним… За что?
На синих воротниках матросов Российского флота издавна три белые полоски – в знак побед при Гангуте, Чесме и Синопе. В 1770 году русская эскадра под кейзер-флагом Алексея Орлова заперла флот султана турецкого в Чесменской бухте…
С этого и начинается рассказ о лейтенанте Ильине!
Накануне наша эскадра спускалась по ветру в Хиосский пролив, нагоняя турецкие корабли Гассан-бея, которых было много… очень много! “Увидя такое сооружение, – вспоминал Орлов, – я ужаснулся”. Но ужасаться превосходству заклятого врага России было некогда, паче того, адмирал Спиридов уже деловито командовал:
– Как только выйдем на пистолетный выстрел, с Богом учиняйте пальбу великую… Всех псов-турок топить нещаднейше!
Ветер сносил эскадру в батальной линии все ниже по ветру. Авангардом из трех кораблей управлял Спиридов. “Европа” под флагом капитана 1-го ранга Клокачева малость замешкалась перед противником, и Спиридов тут же прогорланил:
– Каперанг Клокачев, поздравляю тебя: ты – матрос! А если еще сплохуешь, велю за борт выкинуть… Пошел вперед!
Кордебаталию из трех кораблей возглавлял сам Орлов, а за ними плыли суда арьергарда. Над головами, разрывая паруса и снасти, гремели раскаленные ядра. Спиридов, обнажив шпагу, гулял по шканцам “Святого Евстафия” словно по бульвару и скрипел новенькими ботфортами; на ютах кораблей играла воинственная музыка, литавры гремели, а Спиридов взбадривал музыкантов:
– Играть вам всем до последнего, кто живым останется…
Прошло два часа жаркой пальбы, ветер вдруг стих, но “Евстафий” уже врезался в борт турецкого флагмана “Реал-Мустафы”, причем бушприт его навис над палубой неприятеля, и сразу началась дикая абордажная драка – на ножах, на штыках, на кулаках. “Один из наших матросов бросился срывать турецкий флаг. Его правая, протянутая к флагу рука была ранена. Протянул левую – ее отсекли ятаганом. Тогда он вцепился в флаг зубами, но, проколотый турком, упал мертвым с флагом в зубах…”
Такова ярость боя! Что тут еще можно добавить?
Горящая мачта турецкого флагмана рухнула на палубу русского корабля, давя людей, а мощные сквозняки пожара ворвались в пороховую крюйт-камеру. “Евстафий” раздулся бортами, как пузырь, и, лопнув, он взлетел на воздух вместе с “Реал-Мустафою”! 620 человек команды погибли в иссушающем пламени порохов, лишь несколько счастливцев выбросило взрывом далеко в море…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: