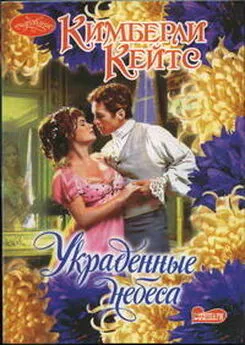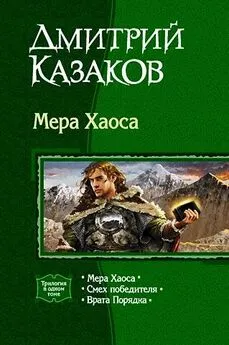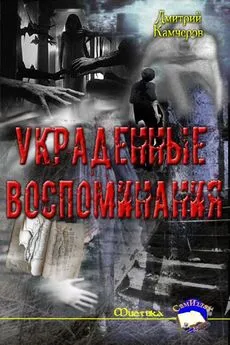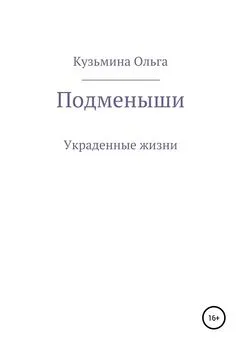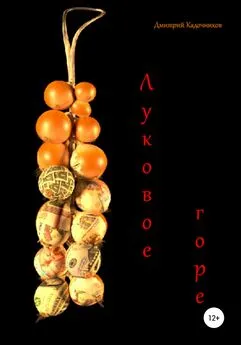Дмитро Бедзык - Украденные горы [Трилогия]
- Название:Украденные горы [Трилогия]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советский писатель
- Год:1978
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дмитро Бедзык - Украденные горы [Трилогия] краткое содержание
В первой книге трилогии — романе «Украденные горы» — автор повествует о жизни западноукраинских крестьян-лемков накануне первой мировой войны и в ее начальный период, о сложном переплетении интересов, стремлений, взглядов разных слоев населения, стремящихся к национальной независимости в условиях Австро-Венгерской империи.
Во второй книге — «Подземные громы» — события развиваются в годы первой мировой войны, вплоть до Октябрьской революции. Действие романа развертывается в России, Галиции, Швейцарии, на полях сражений воюющих стран.
В третьей книге — «За тучами зори» — рассказывается о событиях Великой Октябрьской революции и гражданской войны, о борьбе крестьян-лемков за свое освобождение.
Украденные горы [Трилогия] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Это письмо будет другим. Петро поднес его к глазам, прежде чем распечатать, прочитал адрес. Хотя нет, это не Стефания писала! Заостренные, неровные, небрежные или наспех набросанные буквы, у Стефании же почерк ровный, буквы крупные, округлые…
Разорвал конверт, развернул небольшой, вырванный из тетради лист бумаги. Шаль было расстаться с иллюзией, не оправдалась его последняя надежда: письмо писала чья-то чужая рука…
«Привет, Петро! — пробежал он глазами. — Эгей, пан профессор. Догадываешься, кто тебе пишет? (Волю мой, это ж он, Михайло Щерба, забытый, но незабываемый друг семинарский!) Почти шесть лет прошло с того дня, как отец катехита [11] Катехита — законоучитель.
произрек над моей головой свое апостольское «благословение». Попав невзначай в Санок, узнал, что ты учительствуешь в Синяве. Это хорошо. Любопытно только, каким истинам учишь своих школьников? К какому берегу в конце концов пристал? Сожалею, что наша дружба так скоропостижно оборвалась. Немного о себе: много, ох как много пришлось увидеть и пережить. И горя и радости. Утешаюсь тем, что горе не придавило меня, что хребет мой лемковский крепок, трудненько переломить его. Смотрю вперед, цель нашего парода вижу ясно. А ты, Петруня? Какие зерна сеешь в детские души? Льщу себя надеждой, что не отравленные, наподобие тех, какие пытались затолкать в наши души «духовные отцы» из семинарии. Встретимся когда-нибудь — побеседуем. А может, я к тебе в Синяву соберусь. Сейчас же должен спешить.
Крепко жму руку. Твой М. Щ.».
Петро сунул письмо в карман пальто. Он был сам не свой, растревожен до крайности. Письмо переполнило его радостью и вместе с тем тоской. Он даже перестал замечать детей, которые, здороваясь с ним, проходили в школу. Не мог сообразить толком, о чем говорила ему молодая учительница панна Казя, — что-то там дети наозорничали, кого- то следовало наказать… Петро невнимательно кивнул головой, сбросил пальто, заглянул в записную книжечку, на расписание уроков, бросил учительнице:
— Потом, потом, панна. Пусть сторож даст звонок к урокам. — И, взяв со стола книги, пошел в класс.
Но уроки не принесли Петру ни успокоения, ни удовлетворения. Из головы не выходил Михайло Щерба. Горячий, с густой шапкой волос семинарист, которого дирекция не допустила к выпускным экзаменам, заслонил даже Стефанию. Дал-таки сегодня весточку о себе. «Привет, привет, Михайло». Петро вспомнил, как на третьем курсе у Щербы нашли запрещенные книжки, им тогда заинтересовалась даже саноцкая жандармерия, он стал «подозрительной» личностью не только в семинарии, но и среди «добропорядочных» кругов уезда. Отец катехита созвал всех в конференц- зал и прочитал семинаристам целую проповедь по случаю тяжкого греха Михайлы Щербы: он осмелился не только прятать у себя, но даже читать ученикам стихи богоотступника Франко, того самого львовского писателя, который призывает в своих сочинениях не к святой вере Христовой, не к смирению перед господом богом, а к разбою, к так называемому социализму.
— Иван Франко наша гордость, наш неподкупный гений! — выкрикнул тогда Михайло на весь зал.
Давно, ой как давно состоялся этот диалог между катехитою и Щербой, и посейчас звенит в ушах Петра безбоязненный голос Михайлы. Что-то с ним теперь? Почему не пишет, чем занимается? На первых порах устроился было репетитором к купеческим детям, были кое-какие неприятности со стороны охранки, потом исчез. Одни поговаривали, будто перебрался в Вену, стал профессиональным революционером, другие — что перешел восточную границу… А выходит — нет. Щерба где-то здесь — может, в Кракове, может, во Львове…
Почти машинально вел сегодня уроки Юркович. Перед глазами стоял Михайло, ставил все новые и новые вопросы.
«А что, если бы и ты, Петро, пошел по моим следам? Не испугался того семинарского попика? И не поверил, что Франко богоотступник? К добру или к худу было бы это для тебя?»
«Скорее всего, к худу, — ответил Петро. — Я любил тебя, Михайло, и преклонялся перед твоим мужеством, но изменить вере отцов не в силах был. Оттого по окончании семинарии солидаризировался с местным священником Семенчуком. Называя себя старорусином, сторонником славянской ориентации в политике, Семенчук тоже чурался Франко. «Франко не для нас, русинов, пишет, — внушал он мне, молодому учителю. — Франко подкуплен немцами. Он хотел бы, чтобы лемки навсегда остались под ярмом швабов…» Для меня, Михайло, не было ничего страшнее, чем прозябать под ярмом швабов. То же самое проповедовал на своих собраниях и доктор Марков, лемковский депутат в Вене: «Франко предатель. Франко идет в польской упряжке, он пишет для них в газеты. Он призывает не к единению, а к распрям».
«И ты, великий мудрец, поверил этому?»
«Поверил. И сейчас верю. Вера эта не только моя. Это вера тех, которым невыносимо под Австрией шить. Это, Михайло, вера всех обездоленных лемков. Нам не на кого больше возлагать надежды. Лишь русский царь может вывести нас из швабской неволи, как некогда Моисей вывел израильский народ из египетской».
«Подумай, пораскинь мозгами, на что ты положился, Петруня. На поповскую брехню, друг мой. Не такая вера нужна лемку…»
«Полно, Михайло! Шесть лет назад я слышал то же самое. Не считай меня столь наивным. Поповской брехне не разрушить моей веры. Есть нечто выше ее. А какие зерна, Михайло, я сею в детские души — прошу, загляни ко мне на урок истории».
Урок истории для старшей группы по расписанию назначен на последний час школьных занятий, и проходить он будет в той же большой, заставленной от стены до стены длинными партами темноватой комнате, где сидели и младшие группы.
— Сегодня урок будет общий, — объявил Петро на последней переменке. — Прошу садиться.
В классе поднялся оживленный шепоток. Ученики всех четырех групп любили такие общие уроки, — на них можно было услышать то, чего не вычитаешь в учебниках. После такого урока даже дома родители спрашивали с любопытством: «Ну, что новенького услышали вы от профессора про наших лемков?»
— Тихо, дети, тихо! — Раздумывая, с чего начать урок, Петро прошелся вдоль передней парты, на миг остановился, поглядел на портрет императора в золоченой раме, в мыслях промелькнуло: «Состарился уже, а обещанной школы так и не построил». Встав перед столиком, спросил, обведя взглядом весь класс, до задней парты, где сидел Николай Дубец, один из лучших учеников: — Кто из вас, дети, может спеть песню о збойниках?
В классе наступила тишина. Потом заскрипели старые, расшатанные парты, пролетел по рядам недоуменный шепот. Младшие с передних парт оглядывались на старших, сидевших у стены. Но и на задней парте не находилось никого, кто осмелился бы откликнуться на вопрос учителя. Вот был бы смех на всю школу, если бы кто решился петь перед всем классом…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Дмитро Бедзык - Украденные горы [Трилогия]](/books/1094072/dmitro-bedzyk-ukradennye-gory-trilogiya.webp)