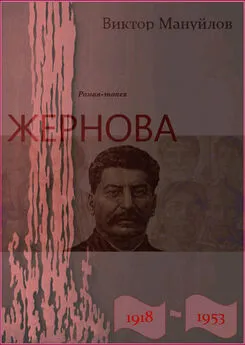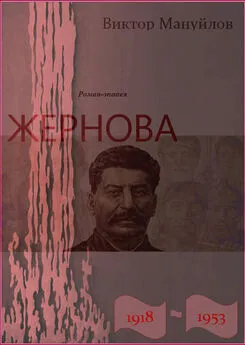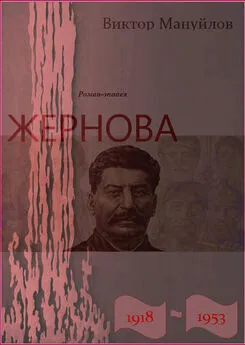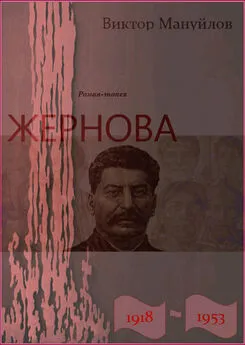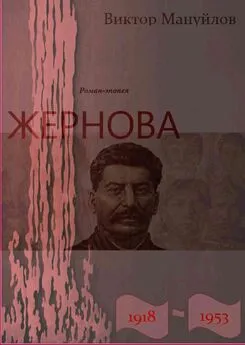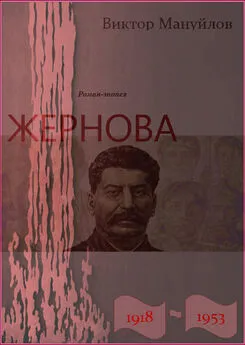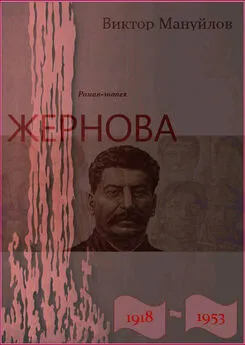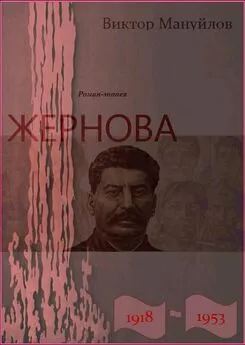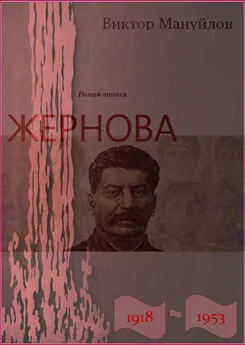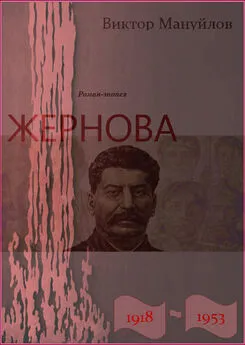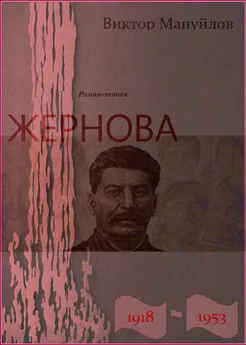Виктор Мануйлов - Жернова. 1918–1953. Выстоять и победить
- Название:Жернова. 1918–1953. Выстоять и победить
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2018
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Виктор Мануйлов - Жернова. 1918–1953. Выстоять и победить краткое содержание
Жернова. 1918–1953. Выстоять и победить - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
И всю зиму с сорок второго на сорок третий год трудился над картинами: из жизни геологов, алтайцев-кочевников, кое-что из воспоминаний о войне, а потом увлекся пейзажем и уже ничего, кроме пейзажей, не писал. И в экспедицию больше не ходил: Коротков сказал, что это не его дело, а его дело рисовать — вот пусть и рисует. На этот раз Александр даже не пытался возражать: так он соскучился по работе — по настоящей и большой работе, столько разнообразнейших тем теснилось у него в голове.
Летом сорок третьего Александр вместе со всей семьей перебрался в горы. Помог секретарь райкома партии: выделил двух лошадей, телегу, подарил войлочную юрту. Загорелся вдруг поехать в горы и Федор Каллистратович:
— Нет-нет, одних я вас не отпущу! — махал он руками. — Одни вы пропадете. Горы — это вам не хухры-мухры, это, батенька мой, штука весьма серьезная и требует к себе серьезного же отношения. Почтения требует, а не просто так.
— Да я ведь прошлое лето… — пробовал защищаться Александр, понимая в то же время, что в компании с бывалым Стрижевским будет и веселее и спокойнее.
— А что вы станете делать, если зарядят дожди? Куда денетесь? В горах дожди — это потоки воды, обвалы, сель. Надо уметь выбирать место, надо уметь предсказывать погоду.
— А как же огород? — по инерции не сдавался Александр.
— А чего с ним поделается? Все, что надо, посажено, иногда буду набегать, давать направление росту, и что вырастет то и вырастет.
Так двумя семьями и отправились. Вместе с козами.
Ребятишки за лето окрепли, в них появилась самостоятельность, практичность: игры играми, а заботы общие, хотя и разные. И младшенький, Ванюшка, тоже окреп за лето, не простужался от каждого дуновения ветра, во всем тянулся за братьями.
И в это лето поехали тоже. И опять двумя семьями. Только коз стало побольше втрое. Во-он они пасутся на покатом склоне горы, привязанные к колышкам. А неподалеку две юрты, возле которых виднеются фигурки женщин, дымок от костра тянется вверх тоненькой струйкой, ребятишки бегают друг за другом, за ними щенок, две сибирские лайки лежат в стороне, третья — у ног Александра, младшие ребятишки копошатся на войлочной кошме — первобытное стойбище, да и только… Надо будет написать большое полотно, хотя… хотя вряд ли такая картина будет с восторгом встречена критиками, которые… Да ну их всех к черту! Он даже не станет выставлять эти картины. Пусть висят дома, пусть дети вспоминают годы, проведенные в глуши. Ведь это тоже война — ее отражение в судьбах людей, оказавшихся вдали от родных мест: не по своей же воле они там оказались…
Александр сложил этюдник, закинул его за спину, стал спускаться к стойбищу.
Быстро темнело, огонек возле юрт светился все ярче, старшие ребятишки, отвязав коз, вели их в загон. В звонкой тишине слышались задорные крики, блеяние коз и перезвон колокольчиков, висящих на их шеях. Высоко в небе все еще кружил орел, высматривая добычу… Так было здесь десятки, если не сотни тысяч лет, и Александр, остановившись, вдруг всем телом своим почувствовал эту бездонную глубину времени, и не только прошедшего, но и предстоящего. И все муки людей, войны, раздоры, вся суета эта, называемая жизнью, так скоротечна и ничтожна — зачем все это? Зачем? Разве нельзя жить по-другому? Почему и откуда, а главное — зачем появляются на свете люди, которые все хотят переделать по-своему, которым всего мало? И миллионы людей начинают думать, что им тоже чего-то не хватает, что им тоже хочется все переделать, — и тогда поднимается злоба и ненависть и наступает слепота. А когда этот угар проходит, когда пролиты реки крови и слез, большинство начинает оглядываться и жалеть о спокойном и безмятежном прошлом, и поражаться, как это они, здравомыслящие и практичные, поддались общему психозу и пошли за теми и туда, куда и за кем идти было верхом безрассудства.
Александр встряхнул головой, освобождаясь от докучливых мыслей. Раньше подобные мысли в голову ему не приходили. Тут, видать, все дело в самой природе, которая оказывает такое потрясающее влияние на человека, заставляя задумываться о вечном и неизменном. Но неизменном ли? Вечность тоже изменчива, но понять это вряд ли возможно: так коротка человеческая жизнь.
И все-таки жизнь — это здорово! А как хорошо здесь, как покойно! Горы, небо, солнце, вода… Что еще? Еще — он сам, средоточие вселенной и времени: все во мне и от меня во все стороны… Я есть — и все есть, все через меня. Но не отсюда ли начинаются все беды человеческие? Не с того ли порога, когда человек, оглянувшись и не найдя никого, кроме самого себя, вдруг почувствует себя же центром мироздания? А что же тогда центр? Бог? Но бог, скорее всего, есть способ самоустранения и разделения ответственности, когда большая часть ее отдается существу, которого нет, но без которого не обойтись в попытках объяснить все непонятное, что человека окружает. Страх перед непонятным, перед ответственностью — вот что такое бог для большинства человечества. Эксплуатация страха — это тоже бог, но со стороны меньшинства. Замкнутый круг. Но так, видимо, и должно быть. И ни в коем случае не разрывать этого круга. Пусть одни верят в одно, другие в другое, а обязанность художника — объяснить это и тем и другим простым и понятным языком красок. Правда, это как-то не стыкуется с марксизмом-ленинизмом, но он, Александр, никогда не был силен в марксизме-ленинизме, взяв из него лишь главное: все люди имеют право на счастье и ни один человек не должен унижать другого.
Но что он скажет тем, которые воевали? Чем оправдает свое безбедное и малополезное существование? Только одним: он должен работать и работать, писать картины, и такие, чтобы перед ними стояли подолгу, не отрывая глаз, и видели в них что-то свое и нечто общее. Иначе не будет ему ни оправдания, ни прощения.
— Са-ша-ааа! — донесся до него со стороны стойбища голос Аннушки.
Голос ее повторился несколько раз восторженными голосами детей, затем уже самими горами, шарахаясь от одной горы к другой, и в конце концов утонул в глубине ущелья.
Александр помахал рукой и продолжил спуск, уже ни о чем не думая.
Глава 20
Вернулась из ближайшего поселка жена Федора Каллистратовича, которую все звали Катей, хотя настоящее ее имя Хатун. Она ловко соскочила с лошади, привязала ее к колышку, сняла с нее сумку. Все стояли рядом и смотрели, как она ее развязывает, достает оттуда печеный хлеб, газеты, письма.
Одно из писем было от приятеля Александра скульптора Николая Клокотова, из Ленинграда, с кем он вместе вступил в ополчение и принял свое первое боевое крещение.
«Только недавно стало мне известно от вернувшихся из эвакуации, где ты обретаешься, — писал Клокотов. — Эк тебя занесло куда — похлеще Тмутаракани будет! Но я рад, что ты жив-здоров, надеюсь, и семья твоя тоже. А вот я свою не уберег: померли от голода. Да что ж теперь — не у меня одного такая судьба. После твоего ранения мы почти месяц не выходили из боя, но бог — или еще кто — меня миловал: ни единой царапины, хотя от первоначального состава батальона осталось меньше половины. Ранило и Николая Мостицкого — ты должен его помнить. Кстати, от него недавно получил письмо: воюет, дослужился до капитана, командует саперным батальоном на Втором Белорусском. Знай наших лепил! Хочет остаться в армии, если не помешают старые раны. Но это сейчас. А тогда, если ты знаешь, вышел указ, чтобы всех, кто имеет высшее техническое образование или является студентом технического же института, от воинской службы освободили. Я тоже подпадал под эту категорию, но уходить из армии отказался. А большинство воспользовались этим указом. Мы их прозвали дезертирами на законных основаниях — ДЗО! Это тот случай, когда всем понятная целесообразность вызывает внутренний протест: окопная психология. Только не принимай эти мои рассуждения на свой счет… Нас, оставшихся, потом влили в регулярную воинскую часть, меня назначили командиром взвода, командовал, как мог. С ноября 41-го и до апреля 42-го воевал на Пулковских высотах, немец тут особенно злобствовал, иногда все держалось на волоске, но мы выстояли. Впрочем, об этом писали в газетах. Потом нас перебросили под Шлиссельбург, а в октябре сорок второго — под Выборг, против финнов. Там война почти не велась: так, постреливали иногда друг в друга. Финны не очень-то рвались в драку, ждали, чем все кончится. Чем кончилось, ты знаешь. К январю 44-го я уже командовал батальоном. Во время прорыва блокады пришлось поднимать залегший под огнем батальон, тут меня и ранило в грудь, пуля прошла рядом с сердцем, врачи вытащили с того света. Комиссовали по полной. Вернулся в свою мастерскую, пробую лепить, но руки — точно чужие: с трудом возвращаются навыки. Особенно тяжело с левой: потерял два пальца. Мыслями все там, со своим батальоном. Пробую писать маслом, но получается и того хуже.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: