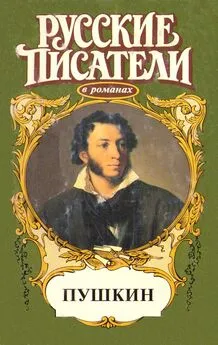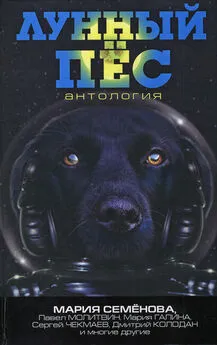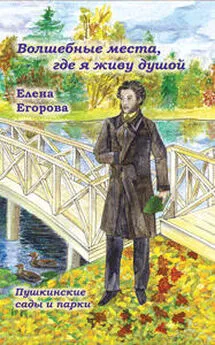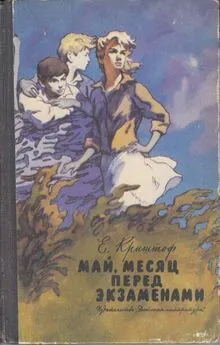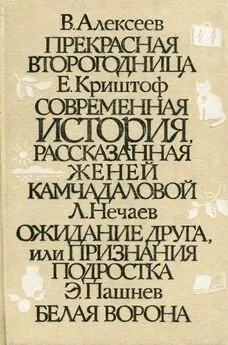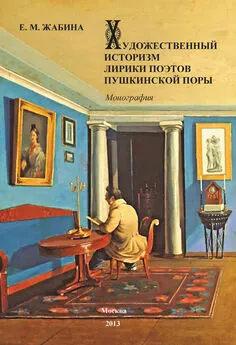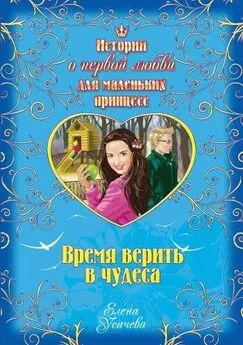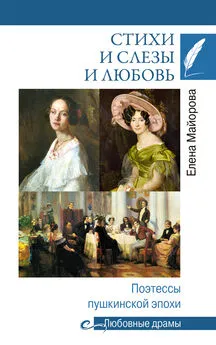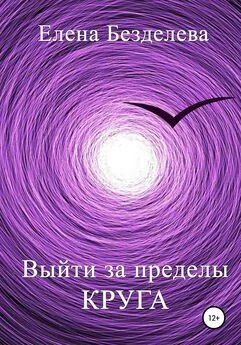Елена Криштоф - «Для сердца нужно верить» (Круг гения). Пушкин
- Название:«Для сердца нужно верить» (Круг гения). Пушкин
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Армада
- Год:1997
- Город:Москва
- ISBN:5-7632-0334-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Елена Криштоф - «Для сердца нужно верить» (Круг гения). Пушкин краткое содержание
«Для сердца нужно верить» (Круг гения). Пушкин - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Свобода и на этот раз остаётся желанной. Но какая? Увидеть воочию обломки самовластья Пушкин не надеется уже много лет. Естественный ход вещей, внятный ему, может быть, больше, чем кому бы то ни было из современников, заставил его ещё в 1823 году с горечью, вернее, с отчаянием написать: «Паситесь, мирные народы! Вас не разбудит чести клич. К чему стадам дары свободы?»
Эта свобода в обозримом будущем не маячила.
Камер-юнкерским мундиром, прочтением писем к жене, гоненьями цензуры была попрана свобода творческая, независимость семейственная. То, что он состоял под тайным надзором, вряд ли ускользнуло от его понимания, просто самому себе не хотелось признаваться... Наваливалась худшая зависимость — денежная, долги всё увеличивались, и вот в это время пишется каменноостровский цикл. Между прочим, «Памятник» тоже вполне можно к нему отнести. Но гордые и горькие строки «Памятника» со школьной скамьи знают все. Я же хочу напомнить другое стихотворение.
Не дорого ценю я громкие права,
От коих не одна кружится голова.
Я не ропщу о том, что отказали боги
Мне в сладкой участи оспоривать налоги
Или мешать царям друг с другом воевать;
И мало горя мне, свободно ли печать
Морочит олухов, иль чуткая цензура
В журнальных замыслах стесняет балагура.
Всё это, видите ль, слова, слова, слова.
Иные, лучшие, мне дороги права;
Иная, лучшая, потребна мне свобода:
Зависеть от царя, зависеть от народа —
Не всё ли нам равно? Бог с ними. Никому
Отчёта не давать, себе лишь самому
Служить и угождать; для власти, для ливреи
Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи...
По прихоти своей скитаться здесь и там,
Дивясь божественным природы красотам,
И пред созданьями искусств и вдохновенья
Трепеща радостно в восторгах умиленья.
Вот счастье! вот права...
И это писал редактор «Современника», замышлявшегося не ради одних журнальных спекуляций, то есть прибыли, но ради влияния главным образом.
Удовольствие вольно путешествовать (в чём Пушкину, кстати, всегда отказывали), созерцая, дивясь, что и говорить, многого стоит. Но Пушкин был не Зинаида Волконская, не Карл Брюллов, хорошо, удачно для себя проживший 13 лет в Италии, и даже не Гоголь...
Пушкин был тот человек, который в 1834 году написал: «Что значит аристокрация породы и богатства в сравнении с аристокрацией пишущих талантов? Никакое богатство не может перекупить влияние обнародованной мысли. Никакая власть, никакое правление не может устоять противу всеразрушительного действия типографического снаряда».
Правда, он устал. До какой степени, можно понять, взглянув на портрет кисти И. Л. Линева. Обязательно найдите его. У меня не хватит слов, чтоб описать этот страдальческий, почти перед слезами взгляд светлых глаз. Этот горький, но уже спокойный рот человека, увидевшего, что конец близок.
Когда-то, совсем молодым, Пушкин писал:
Я видел смерть; она сидела
У тихого порога моего.
Я видел гроб, открылась дверь его:
Туда, туда моя надежда полетела...
Что он мог видеть восемнадцатилетним? Вот сейчас он заглянул за порог. Что ж, выход ещё был, чтоб переступить этот порог живым, надо было изменить себе.
С портрета Линева Пушкин смотрит далеко. И я бы сказала: в прошлое. Смотрит взвешивая. Что? Всю призрачность своей веры в Николая I? Всё лицемерие императора, на заре своего царствования заявившего: «Мы существуем для упорядочения общественной свободы и для подавления злоупотребления ею». Теперь ясно виделось: только для подавления...
Я сравнивала: мне кажется, ни с какого другого — ни с того, который рисовал Кипренский, ни с тропининского, ни с портретов Райта, Гиппиуса, Соколова — он так не смотрит. Там взгляд прямо на вас, на ближние или же дальние предметы. Здесь же он уже запределен.
Таким, с поределыми и как бы слежавшимися волосами, с губами, складка которых, кроме всего прочего, говорила ещё о недоумении, таким вот он мог опять появиться в гостиной Карамзиных любым октябрьским, ноябрьским или декабрьским вечером 1836 года.
— Александр Сергеевич, вам чаю? — обратилась к нему хозяйничавшая за столом Софья Николаевна.
Он кивнул и поднял глаза. В самой их глубине, помимо воли, мелькнула надежда на сочувствие.
— Дядюшка Вяземский сегодня обещал быть, — сообщила Софья Николаевна, отводя от себя его невысказанную и вообще неизвестно о чём просьбу.
Тем более что Пушкин подозвал к себе Россета и, судя по изменившемуся выражению лица, говорил тому что-то язвительное. Снова, значит, был в своей тарелке (так она поняла).
Лицо его разгорелось, он держал Аркадия Россета за руку, говорил горячо и, сам не замечая, сгибал и разгибал пальцы собеседника.
Софья Николаевна повела глазами, предлагая Россету спасение бегством в соседнюю комнату, где Муханов наигрывал что-то отчаянное на фортепиано и велись какие-то свои, прерываемые смехом, счёты с жизнью.
Россет повёл головой отрицательно: в нём жило почтение к поэту, и он был сострадателен.
Ну что ж, и она не была жестока, в ней просто не оказалось способности сердечного проникновения. Она не хотела отвлекаться от того, что сию минуту веселило её тоже не слишком избалованную участием душу.
Она кликнула молодёжь к чаю и заметила, что Пушкин уже стоит, готовясь уходить и договаривая какие-то последние слова Аркадию. Они были строчками стихов:
О сколько лиц бесстыдно-бледных,
О сколько лбов широко-медных
Готовы от меня принять
Неизгладимую печать!
Софья Николаевна пожала плечами. Как часто в последнее время Пушкин, очевидно, доказывал, что не мог не написать уваровской «Оды». И грозил на будущее?
Нет, решительно, к сионским бесстрастным высотам ему было рано.
...В ту ночь, укладываясь спать и уже горячо, истово помолясь, Софья Николаевна долго переставляла какие-то мелочи на туалетном столике. Долго в раздумье то поднимала, то сводила тяжёлые брови. Лицо Пушкина стояло перед нею, и она никак не могла отмахнуться от него.
Дядюшка Вяземский, друг давний и умный человек, вот кто должен наставить Пушкина. Но и между ними пробежал холодок.
Как много, однако, холода было в отношениях между людьми. Как мало, если взглянуть правде в глаза, оказалось бы готовых разделить с нею горести, а не одни прогулки верхом или поездки в Петергоф, Павловск, Царское Село...
Она уже приготовилась к тяжёлой ночи, какие у неё нередко случались, как вдруг её радостно качнуло на мягкой волне. Она увидела аллею с отроческих лет знакомых царскосельских лип, ветки их прикрыли её от многого, что могло составить предмет огорчений. Милая весенняя трава и ещё не вовсе распустившиеся листья на охранительно протянутых над землёй ветках стояли в её плотно прикрытых глазах. Она вздохнула глубоко и облегчённо. Что ж! Следовало радоваться каждой удавшейся минуте. И отодвигать всё, что грозило разбить сердце.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: