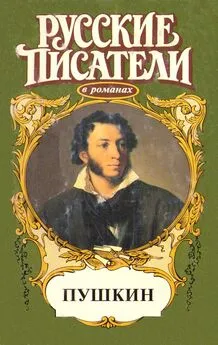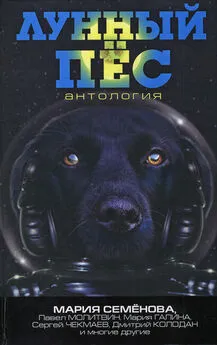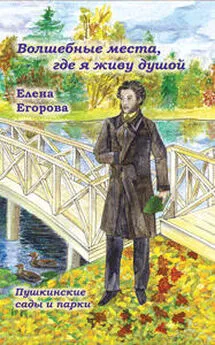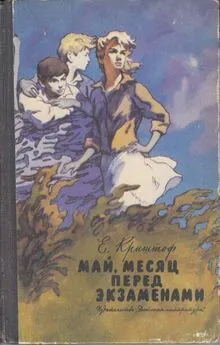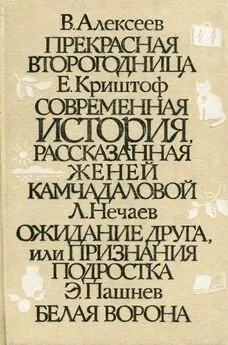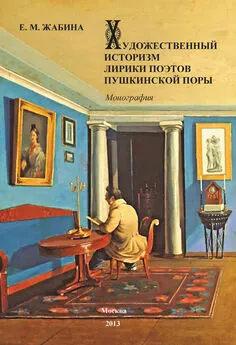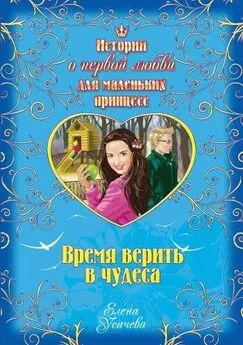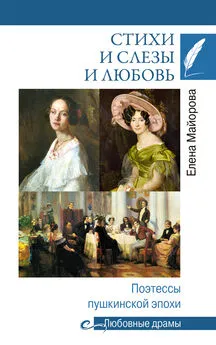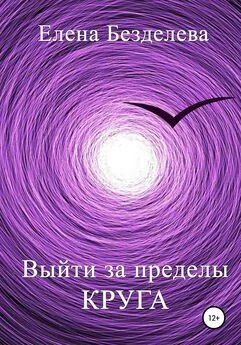Елена Криштоф - «Для сердца нужно верить» (Круг гения). Пушкин
- Название:«Для сердца нужно верить» (Круг гения). Пушкин
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Армада
- Год:1997
- Город:Москва
- ISBN:5-7632-0334-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Елена Криштоф - «Для сердца нужно верить» (Круг гения). Пушкин краткое содержание
«Для сердца нужно верить» (Круг гения). Пушкин - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
II
Пушкин оглянулся на прохожего, указавшего ему дом. Тот всё ещё стоял на углу, как бы рассматривая какую диковинку. Пушкин побежал, мещанин хмыкнул: «Лёгкий господин». Между тем только в движениях Пушкина была лёгкость да в плаще, развевающемся на сквознячке пустой улицы. Лицо же собралось в напряжении, то же напряжение стояло в глазах, будто он боялся, что опоздает и не застанет Дельвига не то в его квартире — в Петербурге. А может, вообще — не застанет? Пущин и Кюхельбекер стали недосягаемы: живы, но какая надежда встретиться, броситься в объятья, просидеть до утра в дыму трубок, воспоминаний?
Дельвиг же, слава Богу, здесь, его можно прижать к груди, расцеловать, рассмотреть, растормошить, услышать милый голос, грустное его «забавно», которым он как бы взвешивал далеко не радостные события; увидеть глаза, обращённые к тебе с любовью, со слезой, неизвестно отчего навернувшейся.
Пушкин бежал уже по двору, к дальнему крыльцу, не замечая того, что сам готов к слезам, что редко с ним случалось. А сейчас проняло. Оттого, что всё время, пока ехал на извозчике, и теперь, пока бежал по улице и через двор, он соединял их в мыслях своих: Пущин, Виля и вот — Дельвиг. И ещё он вспоминал себя и их в тех временах, когда в садах Лицея... В голове и сердце в такт бегу коляски, в такт собственному бегу билось: всё минуло. Всё то: лицейское, молодое петербургское, южное, михайловское — минуло. Начиналось новое царство, новая жизнь, именно поэтому надо было скорее обнять Дельвига, старого друга, чтоб ощутить: как ни поворачивает судьба, какие прыжки ни делает жизнь, она одна от детских дней до нынешнего бега по грязноватому, неприметному двору в предчувствии встречи... Царь вывел его из кабинета на общее обозрение со словами: «Это теперь другой Пушкин. Это теперь мой Пушкин». Хотелось верить в то, что новый царь не простил, но понял его. Прощать — за что? Прощают нашкодивших малолеток... Он хотел не прощения, но — понимания.
Как долог был двор, однако! Пушкину даже показалось: он опять спутал адрес, придётся снова бегать, спрашивая жильца Антона Антоновича Дельвига, барона, литератора, весьма и весьма несостоятельного человека, осчастливленного, правда, женитьбой на очаровательной женщине [90].
Но тут дверь на крыльцо отворилась, отдышливо, протягивая вперёд руки, как слепой, как взывающий к спасению бежал ему навстречу Дельвиг. Они встретились, нерасчётливо ударившись друг о друга, и застыли. Они не видели друг друга, из-под зажмуренных век у обоих катились слёзы. Они только ощущали: родство, теплоту, прежнюю привычность объятии.
...На крыльце стояли уже две молодые женщины; увидевши из окна Пушкина, они сбежали по лестнице вслед за Дельвигом. Одна была миловидна и бойка. Её глаза смеялись и смотрели с любопытством, головка в кудрях грациозно и быстро поворачивалась то к одному плечу, то к другому.
Софья Михайловна Дельвиг удивлялась горячности встречи, тому, что друзья целовали друг другу руки и не разнимали их так долго. Потом Пушкин приник, приткнулся к груди её мужа, не отпуская отворотов его сюртука, как будто он был не тот самый Пушкин, а человек, ищущий защиты. Лицо его стало бледно, бледность покрывала также лицо Дельвига, но к этому она привыкла: барон часто бледнел обморочно, словно бы предсмертно, волноваться не стоило, всё обходилось.
Вторая из молодых дам, ждавших на крыльце, любой взгляд привлекла бы светлой и кроткой красотой. Русые волосы, разделённые простым пробором и ничем не прикрытые, были тяжелы, а большие глаза смотрели на Пушкина сияя. И всё же что-то искательное было в этих глазах, какой-то вопрос настойчивый, но робкий.
Оторванный от Дельвига этим взглядом, Пушкин поклонился дамам, и они с бароном, рука в руку, пошли к дому. Два года тому назад Пушкин написал:
...В глуши, во мраке заточенья
Тянулись тихо дни мои
Без божества, без вдохновенья,
Без слёз, без жизни, без любви.
Душе настало пробужденье:
И вот опять явилась ты,
Как мимолётное виденье,
Как гений чистой красоты.
И сердце бьётся в упоенье,
И для него воскресли вновь
И божество, и вдохновенье,
И жизнь, и слёзы, и любовь.
Стихи эти относились к Анне Петровне Керн [91], и Анна Петровна Керн, собственной персоной, стояла сейчас перед ним, бесхитростно обрадованная его радостью и всё же чем-то стесняющая душу. Как будто тогда, в Михайловском, в своих стихах он дал клятву на будущее, которую не умел и не хотел нынче выполнить.
Тогда был восторг, мгновенно зажегший кровь, мысли, сердце. Сейчас — обыкновенная встреча с хорошенькой женщиной, которая, скорее всего, ждала продолжения. Он когда-то обещал продолжение, заманивая её в Михайловское в полушутливых, полуотчаянных письмах. Сейчас ему казалось: просто шутливых. Женщине же, очевидно, хотелось думать иначе — так он решил.
От внезапной неловкости, целуя руки сначала баронессе, потом ей, Пушкин спросил раньше, чем понял, что говорит:
— Здоровье его превосходительства, Ермолая Фёдоровича? Или нынче я не о нём должен справляться у вашего превосходительства? Тогда кто же счастливец?
Этой колкостью он отводил ей место незавидное, без почтения.
Анна Петровна подняла тихие, бесхитростные глаза:
— Право, Александр Сергеевич, меня так легко обидеть, что принесёт ли это удовольствие? Надеюсь, не вам. Оставим возможность бросать камни в грешницу моему мужу да вашим тригорским соседкам.
Пушкин, покраснев, поклонился и ещё раз поцеловал ей руку. Дельвиг засмеялся, сглаживая неловкость:
— Теперь у меня гарем: жена — номер один; Анна Петровна — номер два; Елизавета Петровна, когда являет нам красоту свою, идёт третьим номером. Я и вправду стал Султан.
«Султан» было лицейское забытое прозвище, полученное за лень, а также тучность, приметную и в юные годы. В словах Дельвига не было и намёка на какие-то отношения, кроме дружеских. И было сочувствие. Доброта вообще была приметна в нём больше, чем в ком бы то ни было из лицейских. У одних цель, хоть и самая благородная, теснила доброту, у других страсть всё пересиливала. Третьи, хоть и слыли добряками, душа нараспашку, а всё до Дельвига им казалось далеко. В Дельвиге доброта жила, как талант. Доброта ко всем и снисходительность... Но тут вспомнилось — Дельвиг весьма резко оборвал мерзавца, заявившего: с каторжными не хочет иметь ничего общего. Даже общей тётки, которая всё-таки существовала, экое неудобство... «Забавно, но и я состою в родстве, — сказал тогда Дельвиг, как передавали. — Но, пользуясь им в радости, зачем же не признавать в печали? Родня она и есть родня — не открестишься. «С кем, через кого, барон, — в родстве? Что-то не слышно было?..» «А со многими. По музам с кем двоюродные, а с кем — прямые братья»... Барон был чудо как хорош в своей твёрдости. Что ни говори, родня опасная: сам Рылеев, Бестужев, Кюхельбекер.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: