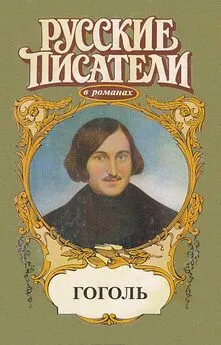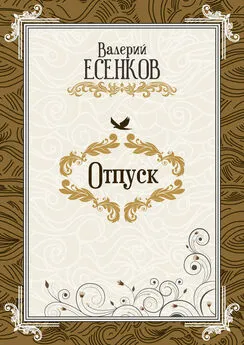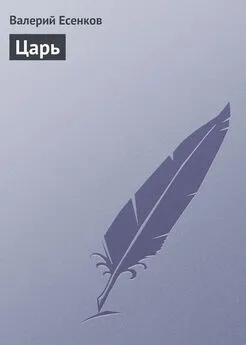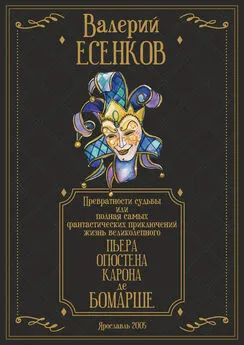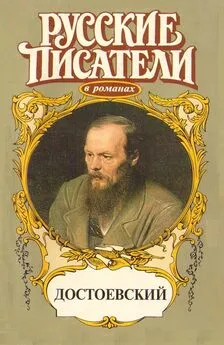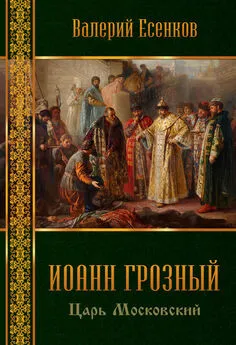Валерий Есенков - Совесть. Гоголь
- Название:Совесть. Гоголь
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Армада
- Год:1998
- Город:Москва
- ISBN:5-7632-0660-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Валерий Есенков - Совесть. Гоголь краткое содержание
Роман ярославского писателя Валерия Есенкова во многом восполняет этот пробел, убедительно рисуя духовный мир одного из самых загадочных наших классиков.
Совесть. Гоголь - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Погодин заложил руки за голову и в другой раз возвысил язвительный голос, беспечно глядя перед собой:
— Э, видишь сам, опыт твой тебе говорит, всякая бедность дурных помыслов рождает не меньше, чем самое большое богатство, потому что бедность противна нашему естеству.
Он перебил:
— О богатстве я теперь забочусь много меньше, чем кто-либо. Самое трудное время жизненной дороги моей уже перемыкано, и нынче мне даже смешно, что и об этом я хлопотал, тогда как именно мне менее всех других на земле следовало бы об этом хлопотать, и Бог всякий раз давал мне это знать очевидно. Когда я задумывал о деньгах, у меня денег не было никогда, когда же нисколько не думал о них, всегда деньги сами приходили ко мне.
Погодин презрительно хохотнул:
— Говоришь, приходили сами собой? Да ты рассуди, что может быть ниже и гаже, как жить подаянием? Богатство по крайней мере делает человека свободным. И я сперва стану свободным от этой презренной, унизительной земности, от этой дряни грошовых забот, истлевающих душу. Лишь тогда и смогу я во всю мою силу творить и, поверь, упущенное наверстаю с лихвой.
Он с мягким укором заметил:
— Самолюбие мутит тебя, всё самолюбие, жаждешь карьеры, то в вице-президенты Академии, то в обер-прокуроры, то в попечители метишь, точно без должности высшей низок и плох человек. Бес тебя гоняет по свету.
Голос Погодина в тот же миг поднялся и загремел в праведном гневе:
— Я силы чую в себе необъятные! Множество предметов обступило меня! Они все пристают ко мне неотрывно: за меня берись, за меня! Сколько обдумано сочинений, сколько приготовлено планов! И я живо чувствую, что всенепременно сотворю и это, и это, и то! Вот скоплю, чтобы жить свободно и без ничтожных меркантильных тревог, и всю жизнь мою — просвещению себя и отечества! Хоть умереть прежде срока, да по себе нетленную память оставить потомству! Кто удовлетворил высшее требование лучших людей своего века и времени, тот жил для веков! О, моё отечество! Буду ли я достоин тебя? Да ты знаешь ли, какое великое наше отечество? Чем более думаю, тем более его узнаю, тем более благоговею пред ним! Рим, ты ещё поклонишься нашей Руси! И мы, мы призваны участвовать в великом деле российского просвещения!
Ему передавалось это горячее, от широты и богатства души идущее возбуждение. Он должен был видеть это лицо, в котором, быть может, в эту минуту святую проступили черты богатырства, лицо прекрасное, разгорячённое возвышенной страстью, какое хоть однажды случается у всякого образованного хорошего русского человека. Он напрягал всё своё зрение, но в полутьме налетевшего вечера уже не удавалось решительно ничего разобрать. Сожалея как о страшной потере о том, что лишён возможности проникнуть в тайные помышления своего собеседника, в воображении представляя его вдохновенным и дерзким, он подхватил:
— Ты верно сказал о лучших людях в веке своём. Действительно просветит нашу Русь только тот, кто состроится лучшим меж остальными. А не состроится лучшим — немыслимо ей повредит. Прими в пример себе Карамзина. Карамзин представляет явление необыкновенное. Он первый нам показал, что звание писателя стоит того, чтобы для этого звания пожертвовать всем, что у нас на Руси писатель может быть вполне независим.
— Независим? Эк, куда ты хватил! Тебе бы журнал издавать, узнал бы ты кузькину мать!
— Если уже весь исполнился чистой любви ко благу отечества, которая первенствует во всём организме писателя и во всех поступках, так ему всё возможно сказать.
— Ну и ну! А цензура на что?
— Для истинного писателя цензура не существует, и не сыщется вещи, о которой он не мог бы сказать. Карамзин нам и в этом урок, данный в поучение всем! И как смешон после этого наш брат литератор, который кричит, что на Руси нельзя правды сказать и что правда колет глаза! Сам не сумеет правды сказать, выразится как-нибудь аляповато, предерзко, так что не столько правдой уколет своей, сколько теми словами, которыми выразит неумело правду свою, словами, знаменующими внутреннюю неопрятность своей невоспитавшейся души, и сам же дивится потом, что правды не приняли от него.
— Это что же, ты обо мне?
— Не об одном тебе, многие этак-то сетуют у нас на деспотизм и цензуру, однако тоже, Миша, и о тебе, и ты эту истину позабыл. Нет, ты имей такую прекрасную и стройную душу, какую имел Карамзин, такое чистое стремление и такую к человеку любовь — и тогда смело произноси правду свою, тогда она скажется верно, тогда все в государстве, от царя до последнего подданного, выслушает тебя. Ты только начни! И начни поскорей!
Погодин хохотнул и звучно сказал:
— Так я уже начал: кафедра у меня, журнал у меня. Чего же тебе ещё для начала?
Он заслышал этот самодовольный смешок, но нисколько не поверил ему — до того не шёл к хохотку богатырский размах могучих погодинских замыслов. Ещё горячей захотелось заглянуть литературному другу в глаза, и он пожалел, что далековато сидит от стола со свечами, вставать, как предчувствовалось, в эту минуту было нельзя, можно было неловким движеньем расстроить беседу, которая поджидалась давно, и он посоветовал горячо, близко наклонясь к Погодину:
— Побоку и кафедру и журнал! Ты же историк от Бога! Все силы положи на призванье! Ведь эдакий размах у тебя!
Под Погодиным скрипнуло кресло, в голосе явственно прозвенела насмешка:
— Бросить журнал? Перестать разносить по Руси просвещение? Оставить плевелы Булгариных, Полевых да Белинских без ответа и возраженья? Кинуть службу отечеству? Смеёшься ты надо мной!
Он не выдержал и поднялся поспешно:
— А подожди, Миша, ты подожди...
Он просеменил торопливо к столу, нашарил готовые спички и в один миг засветил три свечи. Три копья желтоватого света задрожали и поднялись, вдруг ярко всё оживив. Ещё опуская спички на привычное место, он при свете быстро, с вниманием, усиленным взглядом через плечо взглянул на Погодина.
Тот щурился и недовольно ворчал:
— Эко иллюминацию учудил... не театр... достало бы и одной...
Припомнилось вмиг, что третий месяц квартирует у Погодина гостем, что своей воркотнёй прижимистый хозяин мог намекать и на прибавленные гостем расходы, и он согласился смущённо:
— Да, в самом деле...
И задул свечи, приставляя к живому копью козырьком устроенную ладонь.
Погодин, зевнув, обронил:
— Глаза что-то устали, брат, а вот этак-то хорошо.
Невольно отворотясь от Погодина, который лгал прямо в глаза, он приметил брошенный шарф, подобрал его, ещё раз завернул кое-как, сунул в ящик комода, поворотился к Погодину и ощутил, что от этой лжи потерял нужный тон:
— Лучше так, в самом деле, ты прав.
Погодин же попросил, глядя в сторону, усиленно моргая усталыми тёмными веками:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: