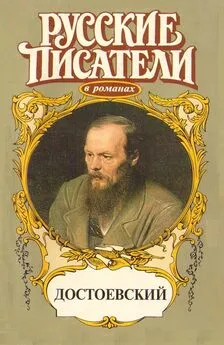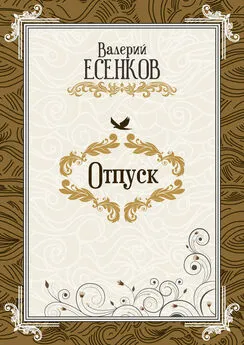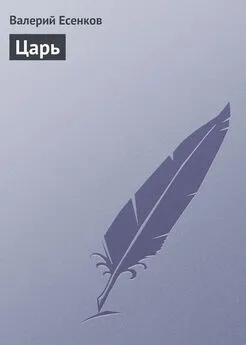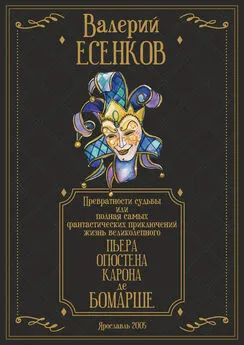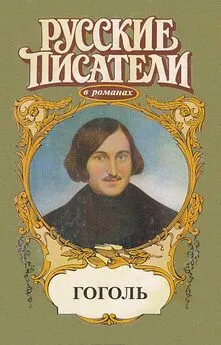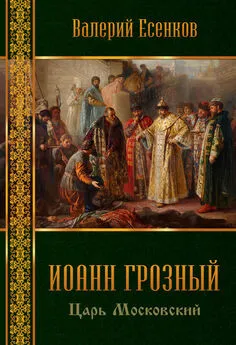Валерий Есенков - Игра. Достоевский
- Название:Игра. Достоевский
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Армада
- Год:1998
- Город:Москва
- ISBN:5-7632-0762-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Валерий Есенков - Игра. Достоевский краткое содержание
Читатели узнают, как создавался первый роман Достоевского «Бедные люди», станут свидетелями зарождения замысла романа «Идиот», увидят, как складывались отношения писателя с его великими современниками — Некрасовым, Белинским, Гончаровым, Тургеневым, Огарёвым.
Игра. Достоевский - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
— Зачем же ты взялся за это?
— Не взяться было нельзя. Уважать теперь некого стало, вот ужас-то весь, некого теперь уважать, а Белинский дело другое, потому решительно все и уважали его. Разве возможно было не уважать?
— Какой он был человек, расскажи.
— Человек он был превосходнейший, то есть именно как человек, ты себе это заметь. Раза три в жизни он самым основательным образом менял свои убеждения, но именно правде, правде одной он не изменял никогда. Это была самая восторженная личность из всех мне встречавшихся в жизни, понимаешь, не рефлектированная, не изломанная, а именно беззаветно восторженная, всегда во всю жизнь. Он знал, что начала нравственные — это основа всему. По этой причине, я думаю, и развилось в нём удивительное чутьё, необыкновенная способность глубочайшим образом проникаться идеей своей, и при такой тёплой вере в идею свою это был, разумеется, самый счастливейший человек из людей. В этом его и сила была, страшно себя проявившая сила, подчас до того, что бывал прав даже тогда, когда был виноват. То есть счастливейший, разумеется, в особенном смысле. Душа его тяжко страдала. Много ли у нас тогда было таких? Этот всеблаженнейший человек, обладавший таким удивительным спокойствием совести, иногда ужасно грустил, однако и грусть особенная была, не от разочарования, нет, а вот почему не сегодня, почему не завтра воплощение всех его идеалов? Потому и примкнул он, по страстно увлекавшейся натуре своей, прямо к социалистам, отрицавшим уже весь порядок современной Европы, и если прилагал то же к России, то лишь вовсе не зная её, то есть не зная фактически, но постигал ужасно много инстинктом, предчувствием, до того иногда постигал, что, я думаю, под конец жизни стал бы славянофилом. Главное же, была в нём одна дорогая черта. Он, конечно, имел самолюбие, без самолюбия нет человека, но в нём не было саморисовки и самовозвеличения. Ты думаешь, отчего? Да именно оттого, что он предвидел высшую цель и всегда себя забывал для скорейшего достижения этой высшей-то цели. Потому, когда он своё новое слово сказал, за ним и ринулось всё. Я тоже тогда, я принял всю его веру, то есть исключительно всю, и до того эта вера сильна, что вот спорю с ним, а доспорить никак не могу. И потом, после смерти его, и на каторге я благоговел перед ним. Там же и наш спор начался. То есть спор-то мы начали раньше, при самом начале, но спор этот как-то больше тогда теоретически шёл, кабинетно, из книжки, а с каторги уже пошёл по-другому. Там кругом меня были именно те, которые, по вере Белинского, не могли не сделать своих преступлений, а стало быть, были правы, и только несчастнее, чем остальные. Я знал, что весь русский народ называет нас тоже «несчастными», и слышал это название множество раз и из множества уст. Но я уловил, что тут было что-то другое, вовсе не то, о чём Белинский страстно так говорил. В этом слове «несчастные», в этом приговоре народа мысль другая звучала. Четыре года каторги была длинная школа, время я имел убедиться.
У неё огнями разгорелись глаза:
— Так он был замечательный человек!
Она была такой непосредственной, свежей, и он почувствовал себя рядом с ней бодрей и свежей, и Белинский вдруг встал перед ним как живой, и хотелось писать и писать, и казалось, что за какой-нибудь час или два статья о нём будет окончена, но ему было так хорошо, так хотелось близости с ней, что он поспешно разделся и лёг рядом с ней, с жаркой страстью обвивая её.
Она положила голову ему на плечо и застенчиво прильнула к нему.
Он торопливо, страстно шептал:
— Аня, Анечка, как хорошо, как замечательно то, что я беден, ты представь, я понял это только сейчас.
Она удивилась сквозь сон:
— Почему хорошо? Это плохо.
Он погладил её по щеке и ласково прошептал, приблизив губы к её горячему уху:
— Потому хорошо, что сейчас ты со мной, а не с моим кошельком.
Он почувствовал, как она улыбнулась, и так с улыбкой счастья вскоре затихла совсем. Он тоже скоро заснул и легко, безмятежно проспал часа полтора, но уже наставало лучшее время труда, и привычка, возникшая ужасно давно, ещё с «Бедных людей», взяла, должно быть, своё, беспокойство воротилось к нему, он заспешил, заспешил, а поезд вот-вот отходил, через минуту или, кажется, меньше, едва успеть добежать, а в кассе ему отчего-то не давали билета, и он крикнул пожилому кассиру в каких-то мертвенно мерцавших круглых очках, что на билет-то у него деньги найдутся и что нечего так глазеть на него, а поезд уже отходил, отходил, и он проснулся в испуге, что вот опоздал, и опоздал навсегда.
Несмотря на сон, испугавший его, он проснулся невыносимо счастливым. Жажда жизни в нём словно усилилась, разрослась. Настоящее было светло, прошедшее развернулось перед ним всё ясней и ясней, и душа обновлялась живительной светлой надеждой на будущее.
Он чуть не вскрикнул, едва открывши глаза. Он в тот же миг осознал, что может и должен писать, однако не шевелился, страшась её разбудить, и неподвижно, почти даже бездумно полежал рядом с ней в темноте, ощущая отдохнувшее, какое-то особенно лёгкое тело, каким не ощущал его слишком давно, потом тихонько поднялся, оделся без малейшего шума, как вор, пробрался на ощупь к столу, стараясь ничего не задеть. Он сел, даже не скрипнув сиденьем для него приготовленного ею заранее стула с неудобной прямой жёсткой спинкой, нащупал пачку со спичками, взял одну и беззвучно потёр. Она вспыхнула внезапно, с лёгким шипением и ослепила его. Он встрепенулся, пугаясь, что это шипенье и особенно свет непременно разбудят её, и обернулся стремительно.
Она раскинулась широко и ровно дышала.
Огонёк обжёг ему пальцы и тотчас погас. Ещё с большей осторожностью потёр он другую и засветил стеариновую недорогую свечу.
На столе ждала его рукопись, тоже заботливо приготовленная ей для него.
Он раскрыл тетрадь с таким чувством, что вот сейчас лишь раскроет, как тотчас закончит статью, и, машинально взяв папиросу, прикурил её от свечи, но, тут же вздрогнув, придавил пальцами едва затлевшийся огонёк.
Ведь они располагали всего одной комнатой, и всю долгую ночь ей придётся дышать горьким, тяжёлым, настоявшимся дымом, который отравит ей кровь, и эта нездоровая кровь вольётся в совсем хрупкое, легко уязвимое тельце, жившее, неустанно росшее в ней.
Он попробовал работать без папиросы и, медленно припоминая всё то, что уже несколько раз было написано и переписано им, стал перечитывать непомерно для такой статьи толстую рукопись, поднося её совсем близко к тусклому свету одинокой свечи.
Разбирать её было трудно. Листы были густо исписаны его мелким торопливым изломанным почерком разными чернилами и в разное время. Первые наброски были ровнее и чище, однако затем, по нескольку раз возвращаясь к написанному, он заполнил все пустые пространства. В разных местах вдруг возникали его любимые жирные нотабене. Нервные строки лепились всё плотней и плотней. В спешке он сильно нажимал на стальное перо, и буквы становились всё жирней и жирней. Он гневно перечёркивал неудачные, забракованные куски и подчёркивал верные мысли. Он сплошь заполнял всю страницу и перебирался затем на поля, заполняя и поля до отказа своим микроскопическим бисером мелких, сливавшихся букв. Наконец, набив всю страницу битком, он переворачивал и на обороте писал в другом направлении, используя каждый ещё не занятый клок.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: