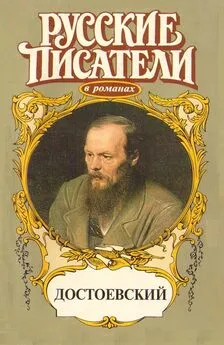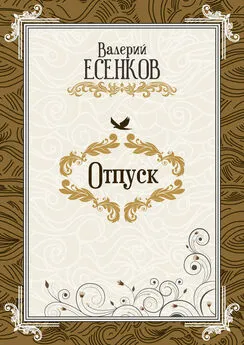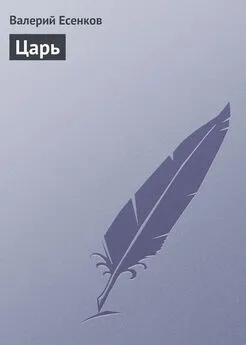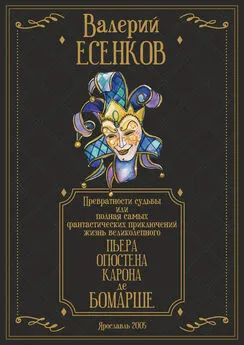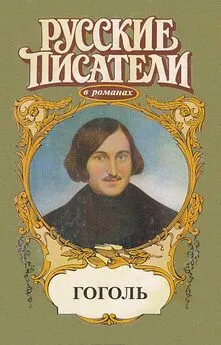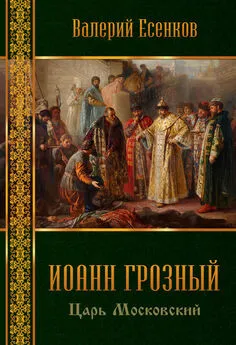Валерий Есенков - Игра. Достоевский
- Название:Игра. Достоевский
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Армада
- Год:1998
- Город:Москва
- ISBN:5-7632-0762-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Валерий Есенков - Игра. Достоевский краткое содержание
Читатели узнают, как создавался первый роман Достоевского «Бедные люди», станут свидетелями зарождения замысла романа «Идиот», увидят, как складывались отношения писателя с его великими современниками — Некрасовым, Белинским, Гончаровым, Тургеневым, Огарёвым.
Игра. Достоевский - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Впрочем, откровенность и простота, с которой тот говорил, смягчали его, как, он это чувствовал, тот и предвидел, но и это предвидение не тотчас оскорбило его, забывались былые обиды, и ему даже на миг почуялось вдруг, что эти прежние молодые друзья, какими они были несколько месяцев, даже тот прежний восторг перед красавцем и поэтом Тургеневым неожиданно будто пошевелились в нём снова. Такому Тургеневу, простому и милому, он мог бы весь нараспашку открыться, весь, целиком, до последней черты, такому мог бы решительно всё рассказать, и жажда откровенного излияния ещё пуще закружила вдруг голову, ему так захотелось рассказать о себе, о своём мучительном положении и всего больше о том, что ему надо, что ему непременно и решительно надо писать, а он никак не может сосредоточиться, чтобы придумать хоть что-нибудь, хоть одну только сильную, страстную мысль, хоть один, но решающий образ.
Но этот тургеневский тон, разбивая стеснительность, приглашая говорить о себе так же свободно и откровенно, как Тургенев, он отчётливо припомнил теперь, заговорил о себе прямо с первого слова, не заботясь занять случайного гостя светским вежливым пустым разговором о разных благопристойных ненужностях, в то же время останавливал и смущал, эта откровенная сосредоточенность на себе, которая выступала в Тургеневе всё очевидней, была непривычна и неприятна ему, от неё веяло мерзким холодом отчуждения, и отчуждение это усиливалось ещё тем, что сам Тургенев не спрашивал его ни о чём, ровным счётом, ни единственным словом, будто постороннее мнение было безразлично или даже бы помешало тому.
От этого неясного, но тяжёлого ощущения он никак не мог подхватить тургеневский приветливый тон откровенности и ничего не выдавил о себе. Что поделать, его, может быть, из какого-то тёмного озорства или беспокойного ироничного противоречия этому приглашению к откровенности так и тянуло говорить Тургеневу о Тургеневе, вызывая тревожное и небезвинное желание указать тому на действительную и слишком уж непозволительную ошибку, справедливо и сильно повредившую несчастному «Дыму», но тихая благодарность, которую испытывал он за этот внезапный вежливый поворот разговора и за эту же самую непринуждённую откровенность, мешала ему приступить к этому неблагодарному делу прямо, сплеча.
И вот ещё что: как ни претило ему вообще больное и мелкое самолюбие, самолюбия Тургенева ему оскорбить и задеть никак не хотелось, бог с ним, и он искал какие-то круглые, мягкие, приглушённые, безболезненные слова, но вместе с этим не совсем деликатным желанием незваного гостя указать на мало приносившую чести ошибку в нём пробуждалась неукротимая страсть полемиста, оживляя в пристрастно вспыхнувшей памяти слова всё больше колючие, острые как игла, и он, двигая беспокойно глазами, отгонял, словно мух, эти назойливые, разящие, полосующие слова, решаясь уж лучше вовсе смолчать как дурак, чем ввязаться в неприятный, ранящий спор, испортив эту редкую в жизни минуту сердечности, но гибкая память вдруг услужливо подсказала, как бы можно удачно выйти из неловкого положения, и он решительно, быстро спросил:
— А я всё-таки присоединился бы к Писареву, хоть этого брата и не люблю, и полюбопытствовал бы тоже узнать, где же ваш тоскующий, умный Базаров, куда вы подевали его?
Лицо Тургенева стало очень серьёзным, очень глубоким и твёрдым, разве что чуть побледнело, и ответ прозвучал без волнения, как давно обдуманное и разрешённое им:
— А я вам отвечу, как ответил ему: Базаров, разумеется, жив, но ему в наше теперешнее смутное время совершенно нечего делать в России, и это лишило меня права ещё раз о нём написать.
Тень негодования прошла у него по душе, пока только тень, но он знал свои тени, эта тень предвещала грозу, и он испугался её, попытался сдержать, одёрнуть себя, что, мол, это дело с Базаровым не его, совсем почти, можно сказать, постороннее дело, и приговор уже, кажется, вынесен, чего уж теперь кулаками махать, воздух беспокоить, не больше, одёрнуть именно для того, чтобы негодование попусту не захлестнуло, не закружило его, но, с другой стороны, дело было, в сущности, и его, то есть общее, и не только одно литературное дело, и всё-таки вырвалось у него излишне громко и страстно, как он себя ни пытался сдержать:
— Ваш Базаров — великое сердце, и ему нечего делать в России? Непостижимо! Простите, это — непостижимо!
Тургенев не то пристально, не то задумчиво, испытующе взглянул на него, опустил тотчас глаза и ответил как-то особенно медленно и чересчур уж спокойно:
— Я думаю, Фёдор Михайлыч, что в настоящую минуту действовать ему было бы неудобно, то есть просто нельзя. Ну что бы он мог? Не в императора же из револьвера стрелять? Во всех иных случаях он мог бы только заявить о себе. Согласитесь, что говорить его устами было бы слишком фальшиво.
Всё так и дрогнуло в нём. Он вскинул голову, сумрачно сузив глаза. Что это: преднамеренно или нечаянно? Тургенев задел что-то важное, что-то совершенно необходимое, близкое, и эти холодные, эти бездушные мысли, плод только ума, оскорбляли его, вызывая неудержимый, страстный протест. Но и странными, любопытными показались ему эти мысли, их, разумеется, невозможно было принять, какое там, честь велика, они были до омерзения противны ему и требовали беспощадного и бесцеремонного опровержения, не до церемоний с подобными заблуждениями, и они же таили в себе что-то ценное, наталкивая на какую-то огромную мысль, которую он так тщетно искал всё последнее беспутное время, которая медленно, осторожно, точно опасно в нём созревала, никак не желая созреть, и до сих пор не давалась ему. Он пытался уловить, удержать — она всё равно не давалась.
Сумрачные глаза его сделались беспокойными. Он машинально полез в карман за часами, которые давно были проиграны в Гомбурге, и заговорил нетвёрдо и сбивчиво, насильно вызывая её, надеясь вот тут сейчас всё и понять:
— И полно... может быть, и не надо... действовать?.. То есть я вот хочу что сказать: ему, должно быть, совсем и не обязательно действовать, а?.. Я даже, если хотите, уверен... То есть вот пусть заявляет себя, как вы говорите... И пусть! Чего же ещё? И более именно ничего, предостаточно... Ведь главнейшее, вы хоть это поймите, пример, человеку нужен пример, каждому человеку... И нам с вами, вот вам и мне, конечно, конечно, и мне, не подумайте... Вот Пушкин, ведь верно? Вы понимаете мою мысль? Ведь о Пушкине тоже, как вы полагаете, можно сказать, что Пушкин только заявляет себя, но Пушкин есть, существует, «и чувства добрые я лирой пробуждал», и мы уже с вами не те, какими, несомненно, были бы без него, даже вот без этой самой строки, я на этом стою... Вот вам и пример... То есть вот моя мысль: это должен быть настоящий пример... Постойте... Ага... Тут должно быть, вы знаете, что-то единственное, может быть, чрезвычайное и вместе даже пророческое... несомненно... пророческое прежде всего.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: