Алексей Иванов - Сердце Пармы, или Чердынь — княгиня гор
- Название:Сердце Пармы, или Чердынь — княгиня гор
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Азбука-классика
- Год:2006
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:5-352-01679-Х
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Алексей Иванов - Сердце Пармы, или Чердынь — княгиня гор краткое содержание
Здесь шаманы-смертники на боевых лосях идут в бой сквозь кровавый морок, здесь дышит и гудит гора Мертвая Парма, прибежище беглецов, здесь предают и убивают ради древней Канской Тамги, дающей власть над племенами и народами, здесь загадочно улыбается Золотая Баба, кружащая головы русским ратникам, а в чащобе рыщет огненный ящер Гондыр. «Огромный, разветвленный и невероятно увлекательный роман о том, как люди, боги и народы идут дорогами судьбы» — так охарактеризовал «Сердце Пармы» писатель Леонид Юзефович.
Роман впервые публикуется в полной авторской редакции.
Сердце Пармы, или Чердынь — княгиня гор - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В пьяной гульбе ратники не раз похохатывали с дьяком, что ему можно уже и дверь прорубать на княжью половину. Венец тогда и сам посмеивался. А сейчас, вспоминая лицо и фигуру Чертовки, вспоминая, как гибко нагнулась она к бадье, как легко шла с коромыслом к дому, будто что-то переливая из бедра в бедро, вспоминая, что здесь, за стенкой, столько ночей эта баба была одна, ждала хоть кого-нибудь взамен детей и мужа, кто поделился бы теплом среди зимнего чердынского холода, — сейчас Венцу сделалось жарко.
Это бывало: жажда тела вдруг охватывала, как обруч, била в виски, гнала. Но, утоленная или нет, не важно, эта жажда всегда проходила. Даже Аксюта была желанна не сама по себе, а потому, что была запретна. Однако теперь томление не истлевало. Разгибая толстые листы ясачных книг в приказной избе, пересчитывая соболиные сорока, потягивая наливочку у епископа или с дружинными пенником затуманивая голову, Венец все равно думал о Чертовке. Все никак не проваливалось видение: вот она вздевает на плечо коромысло и, струя складки платья с бедер, идет по снегу. Будто от скуки, Венец часами простаивал на крыльце, грыз кедровые орешки, сплевывал скорлупки, а сам глядел через заплот на княжеский двор и ждал Чертовку. А однажды, увидев, как неловко баба колет дрова, вдруг дал Ничейке по загривку: пойди, дурень, помоги.
«А в чем, к бесу, разница? — утихомиривал себя Венец. — Княгиня она или не княгиня… Все одно — баба, чудь белоглазая…» Может, поступить, как бывало в далеких деревушках: завалиться в дом, детям и мужику по шеям и на улицу, бабе ладонью рот зажать и притиснуть к полу… Кто здесь на государева дьяка хайло разинуть посмеет? Что ж, один раз попробовал. Принял для храбрости и, пока хмельная братия глотки драла, двинул из горницы, сшиб в ночной тьме заплот, рванул на себя дверь в княжьи сени. Чертовка, как услышала чужое дыхание, мигом на лежанке поднялась. Так и запомнилась: во мраке перед бревенчатой стеной сидит на топчане, глаза как угли, и волосы копной разметались по плечам, шевелятся, точно змеи. Взглядом так шибанула, как и оглоблей не достанешь. Очнулся Венец во дворе в сугробе, ничего понять не мог. Всю ночь не пил, соображал, а утром робко пошел вроде бы как прощенья попросить — дескать, голос князя ему послышался, ну, он спьяну и решил на пирушку позвать, — а на самом деле узнать: была ночью встреча или почудилось? Чертовка сидела за столом и вращала жерновок зернотерки, глядела перед собой в пустоту. Венец присел на лавку, покряхтел виновато, встал, помялся — нет, не видит его баба. Страшно стало; перекрестился и ушел.
И завязла в душе заноза, будто загноилась душа. Не то чтобы он ее полюбил, и не то чтобы только хотел. Любить, желать — это ведь все лишь к людям применимо, а она… Да все пермяки, и князь, и жена его, для Венца как бы вне людей были. Даже когда дома холопов сек или девок портил, и то чувствовал порой стыд или жалость, переживал. По крайней мере понимал, что те испытывают. А к пермякам у Венца сочувствия не было вовсе. Так охотник не сочувствует подстреленному волку, хотя зайца, скажем, может пожалеть. Венец уважал тех людей, которые делают жизнь: Великого князя уважал, кое-каких бояр и купцов, ливонских рыцарей, греческих монахов, свейских мореходов, уважал ратников, конокрадов, послов, богатых любовниц. Венец снисходителен был к тем, кто лепился к сильным, — к наушникам, к шутам, к верным слугам, к разбойникам. Но пермяки… Жизнь свою они не делали: их судьба шла сама по себе; и к силе они не лепились — все равно судьба не минует. Для Венца пермяки стояли как бы за обочиной человеческого, не имели никакого значения — не друзья, не враги, не холопы. Люди, а вроде и не люди. Однако с этой бабой случился в мыслях какой-то сбой. Умом он не постигался, душой не принимался, плотской похотью не исчерпывался. То же самое, наверное, чувствует рыба, вдруг очутившаяся на берегу. Только вот кто крючок-то ему забросил? Эта баба стала для Венца как идол: срубить боязно, потому как чуешь, что в древесных узлах затаился могучий дух, и поклониться не можешь, словно кол в спину засадили.
Время для Венца шло как в дыму. Какие-то грамоты из Москвы ему показывали, о чем-то князь с ним советовался — Венец тупо глядел, кивал и ничего не понимал. Когда весна коснулась Колвы, синью выплеснувшись на лед, когда с полуденной стороны начали обтаивать горы, а проталины испятнали парму, по Чердыни пронесся жутковатый слух. Из затопленной берлоги вылез медведь, да раньше срока, и с бескормицы подался на человечину. Ошивается, мол, возле самого города. Двух охотников задрал и бабу с обоза. Венец в это время ездил на Усолку считать соляные колодцы. Прислали ему ябеду, что соликамцы нарыли новых ям, набили трубы, качают рассол, а соляную подать не платят. Венец поехал разбираться в Соликамск, а там его пять дней допьяна поили, что он и говорить-то не мог. Весь опух, глаза ничего не видели. Суровцевы и Елисеевы, мудрые мужики, напихали ему мешок бобров и с богом отправили обратно, пряча за пазуху подписанную грамотку. Венец и Ничейка ехали воргой, оба распьяным-пьяны-пьянешеньки, на полпути уснули. Олешки сами бежали. Венец во сне скатился с розвальней и остался валяться на дороге. Очнулся — ночь кругом, и созвездия над бором-беломошником, как вогульские грозные городища; пустая белая дорога, снежный лес, дикая тишина. Огляделся: показалось, будто за чащей огоньки мерцают. Решил, что либо охотники, либо деревня, либо уж сама Чердынь. Попер по лесу напрямик, цепляясь шубой за сучки.
Вывалился на край обтаявшей елани и застрял от страха на месте. Посреди поляны высоко горели костры, и рядом с ними сидел на корточках седой, длинноволосый, слепой старик-сказитель, играл на длинной дудке-чипсане. А меж костров, то растворяясь в огненных струях, то вылепляясь вновь, распустив волосы, танцевала нагая женщина — Чертовка. И перед ней на задних лапах стоял медведь, переваливаясь с боку на бок, задрав к небу острую морду, — тоже танцевал. Венец затряс головой — и не было ничего, давно умер слепой сказитель, у которого Иона сжег берестяную книгу, одна в тереме сидела брошенная князем жена, медведь грыз человечьи кости где-нибудь в урочище, не было ничего, только пьяный бред, только морок, только чудская луна колдует в ожерелье звезд над пустой еланью. И в то же время было все — беззвучно горели костры, плясал с ведьмой медведь-людоед, мертвый старик заунывно дул в дудку, и ведьма шептала, гладя зверя по морде: «Уходи, Ош, в парму, не губи своих детей…»
Венец ломанулся обратно и по дороге что было духу бежал до самой Чердыни. Во дворе поленом отходил уснувшего Ничейку, заперся в горнице, засветив все светцы, очумело шаря глазами по стенам и держа под рукой меч. Печально глядел с темной иконы Георгий, медленно пронзая копьецом червячного змея. Дух Венца не успокаивался. Едва взгляд останавливался, как из огоньков лучин распушались костры, а из них вытаивала нагая Чертовка, танцуя теперь вокруг Венца, и, сияя глазами, шептала алыми, словно кровь, губами: «Зачем, дьяк, подсмотрел, как я, ламия, волхвую? Смерть тебе! Смерть, милый! Иди же ко мне!…» И опаляла лицо, грудь, живот страшная и дивная нагота женщины — зовущая, гибельная. А как рассвело, на сугробе под окном Венец нашел след босой женской ноги — один-единственный.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:


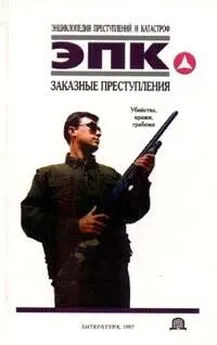
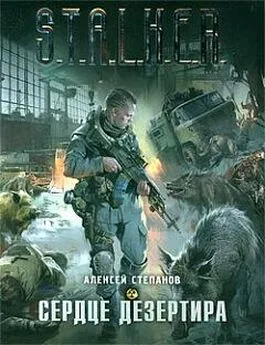
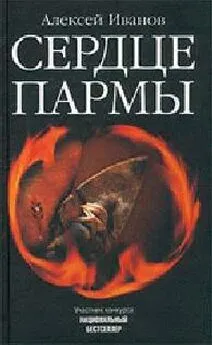

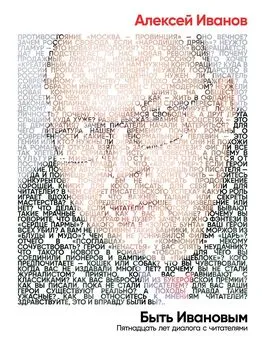
![Алексей Иванов - Сердце Пармы [litres]](/books/1144524/aleksej-ivanov-serdce-parmy-litres.webp)

