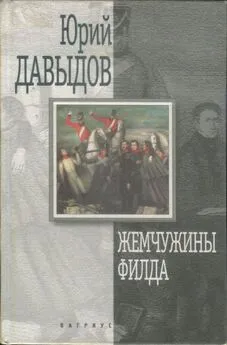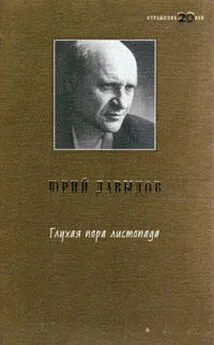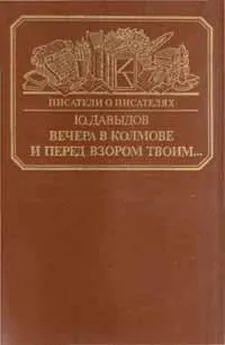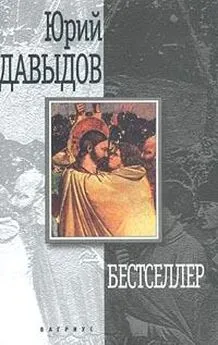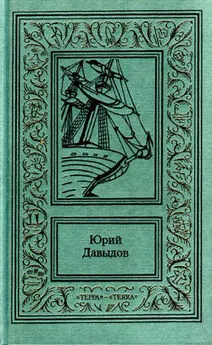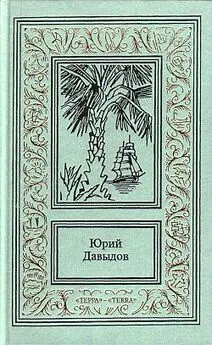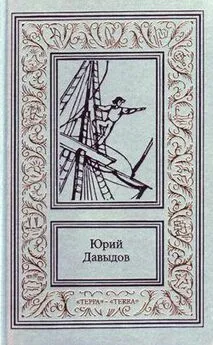Юрий Давыдов - Жемчужины Филда
- Название:Жемчужины Филда
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ВАГРИУС
- Год:1999
- Город:Москва
- ISBN:5-7027-0736-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Юрий Давыдов - Жемчужины Филда краткое содержание
Так началась работа писателя в историческом жанре.
В этой книге представлены его сочинения последних лет и, как всегда, документ, тщательные архивные разыскания — лишь начало, далее — литература: оригинальная трактовка поведения известного исторического лица (граф Бенкендорф в «Синих тюльпанах»); событие, увиденное в необычном ракурсе, — казнь декабристов глазами исполнителей, офицера и палача («Дорога на Голодай»); судьбы двух узников — декабриста, поэта Кюхельбекера и вождя иудеев, тоже поэта, персонажа из «Ветхого Завета» («Зоровавель»)…
Жемчужины Филда - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
А ПАСТОР ИЛСТРЕМ в этот день пожаловал на Лонгерн.
Был пастор в круглой черной шляпе, в черном долгополом сюртуке. Вошел, как факельщик при катафалке. Но Кюхельбекер улыбнулся: священник-то, сдается, пахнет снастью, как ветхозаветный Нимврод, ловец пред Господом, охотник и рыбак.
А пастору, сказать по правде, в зубах навязли расхожие утешенья. Он видел, что здесь они не нужны, и тоже улыбнулся. Поговорим о чем-нибудь другом. О чем же говорить нам с госпреступником, как не о книгах? Книг было числом шестнадцать; во главе с Шекспиром они перемещались следом за владельцем. Пастор побежал глазами по корешкам, а пальцы осязали переплеты столь бережно, что Кюхельбекер снова улыбнулся. Он славный, этот Илстрем. И голос пастора глубок и влажен, как у Зейдлера… Облик Зейдлера замглился в памяти, а голос тотчас вспомнился. Зейдлер, пастор, пострадал когда-то от глупейшего навета, был бит кнутом и сослан; потом вернулся, жил в Гатчине, Кюхельбекер-старший был с ним короток, а Кюхельбекер-младший впервые сердцем дрогнул, прослышав о прелестях кнута и самовластья… Разговор с Илстремом был важным, ведь оба оседлали любимого конька, то есть говорили о постиженье Ветхого Завета… Илстрем услышал имя: Грибоедов. Оно не обласкало финско-шведский слух, и пастор не спросил, он кто таков, едок грибов, но Кюхельбекер прихмурился, и пастор, извиняясь, кашлянул… Оказалось, этот Грибоедов восхищался красотой и смыслами Завета Ветхого, особенно пророчеством Исайи — жег глаголом прегрешение народа, возлюбленного Богом. Тогда ж, в Тифлисе, он читал Вильгельму свою комедию, еще не высохли чернила… О, пастор расспросил бы о Грибоедове, но Кюхельбекер, заглянув в окно, вдруг жестом пригласил Илстрема…
На жухлом дворике, у клена, черный шпиц атаковал козу. Откуда взялись, неизвестно, но… Смотрите! Черный шпиц, все пуще злясь, наскакивал на белую козу. Она, невозмутимая, являла мудрость, а значит, многая печали, и лишь в последний миг рога склоняла, и шпиц отскакивал, поджавши хвост. Он устремлялся с флангов, с тыла, она лишь поворачивала голову, светила желтым глазом и рога склоняла.
«Вот так!» — изрек Вильгельм и поднял палец, удваивая восклицание. «Да-да, вот так», — согласился пастор.
О чем они?
То было продолженье размышлений о книге Ездры из Ветхого Завета. Еврей-писатель поражал своею смелостью олицетворений — просопей. Их смысл объяснил ему опознанный летающий предмет, светлейший ангел Уриил. Но Уриил на Лонгерне не приземлялся, и собеседники своим умом истолковали просопею на дворе, у клена. Шпиц — символ (тут ударение на «о») — атеизма злобного; Коза — ветхозаветной мудрости… Глобальные соображения имели примечанье частное: Илстрем сообразил, что в пиво надо подливать парное козье молоко, отнюдь не кипяченое коровье; тогда уж достопочтеннейший отец Панкратий по-иному отнесется к земным путям спасенья.
Прощаясь, пастор обещал и книги, и полку книжную, и запас бумаги. Кюхельбекер запросил и мел, и аспидную доску для черновиков: сочиняя, сто раз перебеляешь; переводя Шекспира, сольешь семь вод.
На том расстались, довольные друг другом, ибо оставались просопеей единого духовного пространства.
Смеркалось. Бряцали, брякали, звенели кандалы: земным путем шла рота арестантов к спасению в Казарме.
ЕЩЕ НИ ЗГИ, а уж побудка.
Дает надежду свет лампадок, они неугасимы даже в карцерах. А указует путь — увесистый тесак; в казарме унтер-кесарь. Вставай, поднимайся и т. д.
Э, нары не постеля, не разомлеешь с бабой. И не ложе мужеложства — вишь, отгорожены веревочкой. Тюфяк, убитый в блин, сверни — и в изголовье валиком, а сам вали на двор — опорожнись. Природа пустоты не терпит, но терпит мясопуст: полфунтика ржаного и кипятку без меры. С таких харчей никто уж на работах не испортит воздух — и экология в порядке.
Марш, марш за ротой рота. Архипелаг пришел в движение. Какая музыка взыграла — полусапожки в кандалах. Все это называется «наиважнейшим делом о приведении в оборонительное состояние».
САМОСИЯННАЯ ДЕРЖАВА была тюрьмой народов? Русофобы лгут! Народы сами создавали в тюрьмах смесь племен, наречий, состояний. Пушкин видел зорко:
Меж ними зрится и беглец
С брегов воинственного Дона,
И в черных локонах еврей,
И дикие сыны степей,
Калмык, башкирец безобразный,
И рыжий финн, и с ленью праздной
Везде кочующий цыган!
Кому же, как не грубым, зримым рыть котлован. Упраздняя праздность, цыган-коваль вздувает горн и молотом стучит. Еврею в белы ручки дадена совковая лопата. Донскому земледеру и честь, и место в землекопах. Финн рыжий, а равно нерыжий, пильщиком и плотником вдыхает-выдыхает смолистый запах своей провинции печальной. А дикие сыны степей ломают глыбы в каменоломне.
Самосиянная держава была тюрьмой народов? Ложь! Все это называется «наиважнейшим делом о приведении в оборонительное состояние».
НЕ НАДО бегать по белу свету, а надо сесть в тюрьму. Смотреть и слушать: произойдет слияние Словесности и Истины.
И Кюхельбекер слышал матерщину — солдат и арестантов, унтер-офицеров, случалось, и обер-офицеров, питомцев Инженерного училища, что в Петербурге, на Фонтанке. Кюхельбекер ушей не зажимал. Как всякий одинокий узник, он жаждал звуков, голосов. И вот — внимал. Нет-нет да языком прицокивал. Но похабные фиоритуры, натуру обнажая, не приближали к Истине нагой, сюжетов не дарили. Тут Бог послал Кобылина, солдата.
В начале было слово. И вот что интересно: не матерное.
Однажды, стоя на часах в тот час, как южный ветер тучи развалил, Кобылин ахнул поэтически: «Прелестное небо!» И Кюхельбекер ахнул следом.
Конечно, Карамзин посредством бедной Лизы давно уж объяснил, что и крестьянки любить умеют; Кюхельбекер с этим согласился априори. Но тут… Солдат не только чувствовал, он чувство изъяснил. Каков Кобылин!
Кюхельбекер, хоть и живал в Москве, просвирен с их чистой речью не знавал. Он знал матросов и солдат с их речью, не столько чистой, сколько смачной. А иногда неправильной, что, право, хорошо. Правильность еще афинская торговка считала меткой чужестранца и была права. Русскоязычный Кюхельбекер русской речи без грамматической ошибки не любил. Он учился на чужих ошибках — в Кронштадте, где жил у Миши, лейтенанта, в доме с мезонином и видом на Большой кронштадтский рейд; и в Петербурге, на Екатерингофском, где флотский экипаж. Тот самый, да, гвардейский; на Сенатской бунтовщики смутились под картечью, он храбро крикнул: «В штыки, ребята!» Эх, стрюцкий, статский, ему ответили, как дураку: «Не видишь, что ли, они из пушек жарят!» Тоже, знаете ль, учение, но иного рода. Однако это к слову, а речь-то о словах… В кобылинской ремарке он восхитился прилагательным. О, ни один служивый тому лет десять нипочем не произнес бы — «прелестное небо». Извольте-ка не заключить, что век идет вперед!
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: