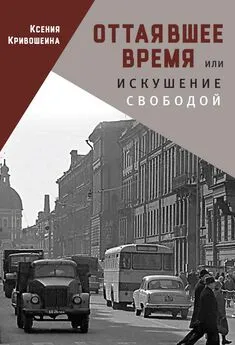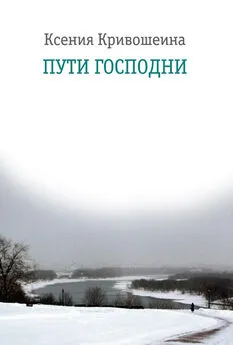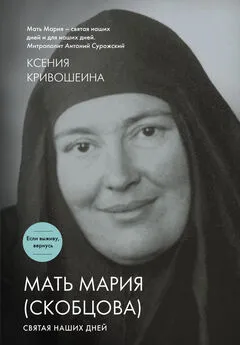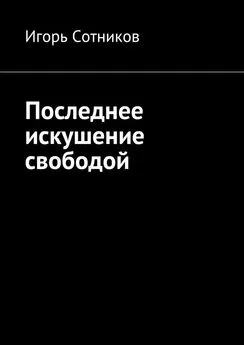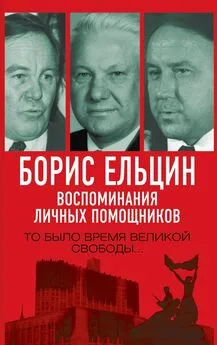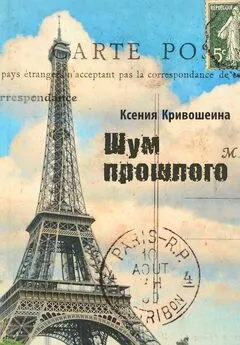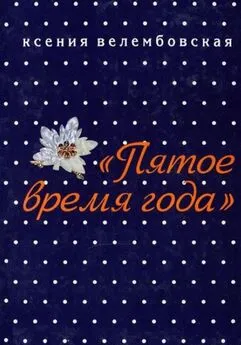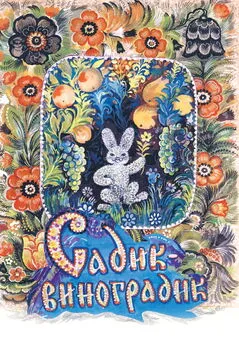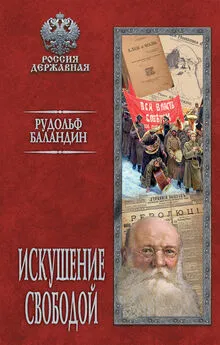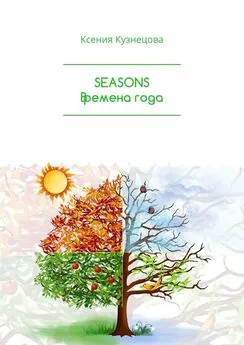Ксения Кривошеина - Оттаявшее время, или Искушение свободой
- Название:Оттаявшее время, или Искушение свободой
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Алетейя
- Год:2017
- Город:C,анкт-Петербург
- ISBN:978-5-906910-73-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ксения Кривошеина - Оттаявшее время, или Искушение свободой краткое содержание
Оттаявшее время, или Искушение свободой - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
На своём жизненном пути деду довелось встретиться со многими известными людьми того времени. В большой дружбе он был с композиторами Глазуновым, Римским-Корсаковым, с музыковедом Гнесиным, с С. Волконским, с дирижером Е. Мравинским.
Большим событием тех далёких лет была постановка опер Вагнера на сцене русской оперы. В те годы не возникало столь идиотских дискуссий, что Вагнер — «фашистский композитор», тогда фашизм ещё не родился. А как же теперь классифицировать Бетховена, ведь его произведения были любимыми и исполняемыми лично вождём пролетариата В.И. Лениным? Так вот, история не должна замалчивать, что В.Э. Мейерхольд много и тщательно изучал творчество Вагнера и его эстетические воззрения. Именно в его постановке появилась впервые на русской сцене опера «Тристан», в которой Ершов пел заглавную партию. Он стал первым исполнителем главных ролей всего цикла «Кольца Нибелунгов», а замечательный костюм для Зигфрида (шкура, сандалии, меч) были придуманы самим Бенуа. В те же годы Мейерхольд работал вместе с Глазуновым и Бенуа над оперой «Маскарад», получилась интереснейшая постановка.
За тридцать три года пребывания на сцене И. Ершов создал около шестидесяти партий и уже на закате своей артистической карьеры стал первым исполнителем Труффальдино в опере С.С. Прокофьева «Любовь к трём апельсинам». Сергей Сергеевич уговорил деда выйти на сцену в этой партии, и был уверен, что, не смотря на почтенный возраст (Ершову было уже за 60), он будет блистателен. И не ошибся!
В 1938 году, после первого исполнения «Пятой симфонии» Дмитрия Шостаковича под управлением Евгения Мравинского, потрясённый услышанным, Ершов, уже семидесятилетний старик, маститый артист, упал в артистической на колени перед растерявшимся композитором.
Восторженность, буйный и неудержимый темперамент деда приносили не всегда радости. Частенько это оборачивалось скандалами и руганью с дирижёрами и постановщиками. В своих оценках и принципах у деда никогда не было дипломатической середины, но ему прощалось многое именно потому, что он был Ершов.
Настоящий самородок, выходец из бедной семьи, обожавший русский язык, хотя в совершенстве владел немецким и итальянским, считал всегда, что находится в неоплатном долгу перед своей Родиной и народом. Может быть, поэтому он так никогда и не решился уехать в эмиграцию.
Скончался Иван Васильевич Ершов в 1943 году в день своего рождения, в Ташкенте, куда были эвакуированы Мариинский театр и консерватория. В 1956 году прах его был перевезён в Александро-Невскую Лавру, в Некрополь, где он покоится рядом с могилами артистов, композиторов, своих учителей и учеников….
Как-то однажды, уже в Париже, мой муж Никита Кривошеин позвал меня к телефону: «С тобой хочет поговорить из Нью-Йорка моя девяностолетняя тётя». «А Вы похожи на своего деда?» — был её первый вопрос. Я растерялась.
Странна наша судьба, а иногда и её возвращение «на круги своя».
Я живу уже более тридцати пяти лет в Париже, но если сказать честно, никогда не стремилась уехать из бывшего Советского Союза, не подавала заявлений в ОВИР, да и не устраивала всех прочих уловок и демаршей, для того чтобы, как в то время говорили, «быть выездной». Жизнь моя была интересна в тогдашнем Ленинграде. Я была окружена друзьями и поклонниками, работала иллюстратором детских книг, посещала концерты в филармонии, выставки, много читала и слушала, как все, радио «Свобода» и «Би-Би-Си». Я выросла в семье, где царила музыка, опера, драматический театр и живопись. В младенческом возрасте, чтобы успокоить мой рёв, меня клали на крышку рояля, а бабушкины ученики продолжали репетировать партии. Может быть «по наследству» я была увлечена балетом и мечтала, что из меня выйдет хорошая балерина. По тем годам меня подвел рост («слишком высокая!» — был вердикт Вагановского училища — «партнёра не сыскать»).
В свои шестнадцать лет я с большим любопытством изучала залы Эрмитажа и Русского музея, ходила на «джемсейшены» в Университет, где играли замечательные и прославленные джазисты, и где читали свои стихи Соснора и Бродский. Наше поколение прикоснулось к этой непродолжительной полосе счастья в истории СССР под названием «оттепель» и «десталинизация». Состояние воздуха (буквально) было пропитано возможностью бесстрашно танцевать (буги-вуги), читать («самиздат»), петь (Высоцкого, Окуджаву и Галича), собираться компаниями с гитарой и пить сухое вино «Гамза», ходить на новые концерты «Мадригала» в филармонию (во главе с Андреем Волконским в зените своей славы), посещать первые квартирные выставки художников-авангардистов и наконец… по моде (хоть и с большими трудностями!) одеваться. Более того, я смогла совсем не сложной уловкой избегнуть вступления в ряды комсомольской организации. И ещё многое другое, что невозможно перечислить в списке тогдашнего «счастья», обрушилось лавиной на нас.
К сожалению, длилось это всего года три-четыре, а потом стагнировало вплоть до начала семидесятых. Началась новая волна посадок и арестов с процессами диссидентов и отказников, в результате пошли выезды и высылки из страны, родина лишалась своих героев и лучших представителей интеллигенции. Кто бы мог тогда предполагать, что многих из нас судьба сведёт в Париже, Лондоне или Нью-Йорке. Странно подумать, что уже в те шестидесятые годы, в параллельном пространстве, рядом, не пересекаясь со мной, мелькал в тех же компаниях мой будущий муж Никита Кривошеин, с котором мне суждено было встретиться только в 1979 году… в Женеве.
И уже разбирая архив Ивана Ершова, я обнаружила фотографию, на которой изображён мой дед, мама Никиты, его тётушка и Борис Зайцев. Место этой сцены — 1910–11 годы, Гурзуф, имение Мещерских. Иван Ершов посещал эту семью, пел у них на музыкальных вечерах, писал портрет Наталии Алексеевны (тётушки Никиты), ухаживал за ней. Так что вопрос Никитиной тётушки по телефону из Нью-Йорка, через семьдесят лет, «похожа ли я на своего деда?» был достаточно сюрреалистичен для нас с Никитой, но не для неё.
На обороте этой групповой фотокарточки почерком моей бабушки (Софьи Владимировны Акимовой) подробно выписаны даты, место, фамилии. А на другой открытке — репродукция портрета Наталии Алексеевны Мещерской и Бориса Зайцева, писанного моим дедом.
Эти странности и, как оказывается, закономерности предопределены нашей судьбой. Разбитые и рассеянные черепки склеились. А мой дед, моя бабушка, и судьба семьи Никиты нашли продолжение и соединение уже в нашей жизни. Но обо всём этом хочу рассказать по порядку.
О моей бабушке
Итак, бабушка моя Софья Владимировна Акимова (Ершова), будущая жена Ивана Васильевича Ершова и мать Игоря (моего отца) родилась в 1887 году на Кавказе в городе Тифлисе. На своей левой руке безымянного пальца я ношу фамильное кольцо с вензелем из трёх букв «С.В.А» (имя, отчество, фамилия бабушки), это то малое, что сохранилось у меня от семьи. И ещё я всю жизнь обращалась к своей бабушке только на «Вы». Отношения наши были всегда тёплыми и увлекательными.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: