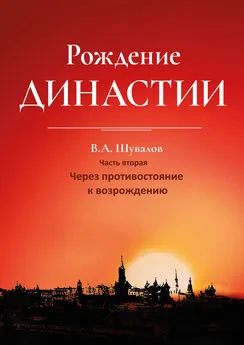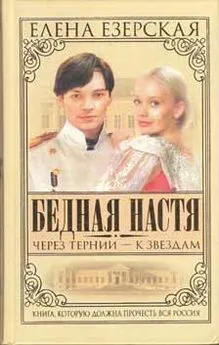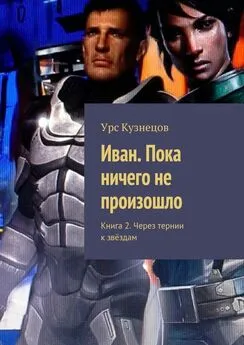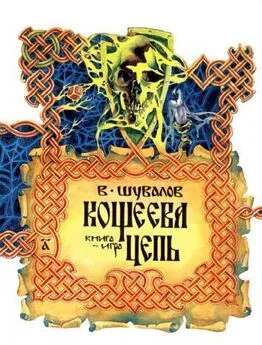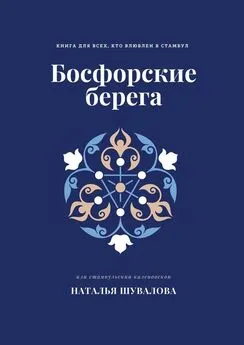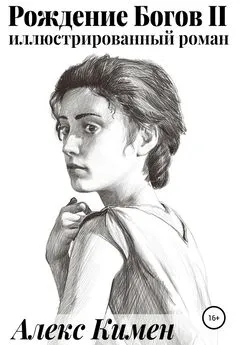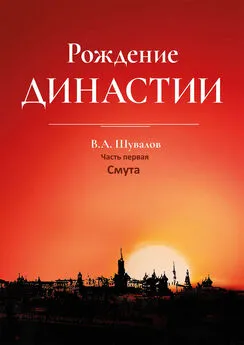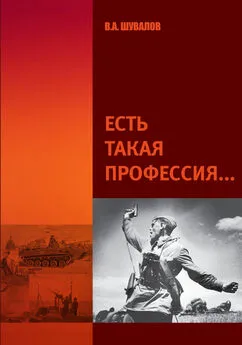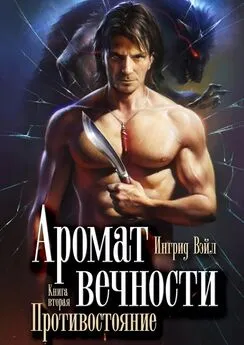Владлен Шувалов - Рождение династии. Книга 2. Через противостояние к возрождению
- Название:Рождение династии. Книга 2. Через противостояние к возрождению
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:978-5-6046737-0-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владлен Шувалов - Рождение династии. Книга 2. Через противостояние к возрождению краткое содержание
Сколько бед и страданий принесла она людям. Не счесть! Но если бы не было Смуты, не было бы Петра Великого и Екатерины Великой тоже… не ворвалась бы Россия – всеми забытая окраина мира на всех парусах в застоялые воды просвещенной Европы, не заявила бы о себе мощно, гордо, навсегда!
Рождение династии. Книга 2. Через противостояние к возрождению - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Под сенью креста православного
Осень 1608 года стояла удивительно теплая, тихая, сухая. Сентябрь уж шел к концу, а лес еще стоял в полном уборе и блистал густою, ярко-золотистою, то огненно-красною, то багряною листвой. И дни стояли ясные, нежаркие, которые свойственны только северной осени.
И как бы в противоположность этой тихой осени богоспасаемый город Ростов – «старый и великий», всегда спокойный, сонный и неподвижный – в эту осень сам на себя не походил…
На улицах заметно было необычайное оживление и движение: на перекрестках, на торгу, на папертях церквей – везде граждане ростовские собирались кучками, толковали о чем-то, советовались, спорили, что-то весьма тревожно и озабоченно обсуждали.
И в приказной избе тоже кипела необычайная работа: писцы под началом дьяка усердно скрипели перьями с утра до ночи, а дьяк помногу раз в день хаживал с бумагами к воеводе Третьяку Сентову и сидел с ним, запершись, по часу и более. И сам Третьяк Сентов был также целый день в суете: то совещался с митрополитом ростовским Филаретом Никитичем, то с кузнецами пересматривал городскую оружейную казну, отдавая спешные приказания относительно починки и обновления доспехов оружейного запаса, то обучал городовых стрельцов ратному строю и ратному делу.
Одним словом, на всем Ростове и на всех жителях его лежал отпечаток какой-то тревоги, беспокойства, ожидания каких-то наступающих бед и напастей.
В саду того дома, где помещалась инокиня Марфа Романова со своими детьми Мишей и Танюшей, и с деверем своим, шла между Марфой Ивановной и боярином Иваном Никитичем такая же беседа, как и всюду в Ростове, на площадях, да перекрестках.
– Час от часу не легче, – говорила, вздыхая, Марфа Ивановна, – одной беды избудешь, к другой себя готовь!
– Словно тучи, идут отовсюду беды на Русь, – сказал угрюмо сидевший около инокини боярин Иван Никитич, – и просвету между туч не видно никакого! Одна за другой спешит, одна одну нагоняет… Сама посуди: от одного самозванца Бог Москву освободил, – и году не прошло, другой явился, а с ним и ляхи, и казаки, и русские изменники… и вот куда уж смуту перекинуло: под Тушино! Москве грозят, обитель Троицкую осаждают, да сюда уж пробираются, в Поволжье… Спаси Господи и помилуй!
– Да, неужели они и сюда могут прийти? – тревожно спросила Марфа, невольно бросая взор в ту сторону сада, откуда неслись веселые и звонкие детские голоса.
– По-моему, – говорил Иван Никитич, – заранее необходимо меры принять. Я так и брату Филарету говорил, – вот, к примеру, тебя с детьми, я отослал бы, пока есть путь в Москву. Там все же вернее будет.
– Меня с детьми? А муж здесь чтобы остался? Нет, нет! Ни за что!
На другое утро, спозаранок, тревожно зазвонили колокола во всех ростовских церквях, кроме Кремлевских соборов.
Не то набат, не то сполох… И все граждане, поспешно высыпавшие из домов на улицу, полуодетые, простоволосые, встревоженные, прежде всего, спрашивали у соседей при встрече:
– Пожара, нет ли где? А не то ворог, не подступает ли?
Ни пожара, ни ворога, а все же беда над головой висит неминучая.
– Вести такие получены! – слышалось в ответ на вопросы, хотя никто и не брался объяснить, в чем беда и какие именно вести.
Между тем звон продолжался, толпы на улицах возрастали, а из домов выбегали все новые и новые лица: мужчины, женщины и дети. Кто на ходу совал руку в рукав кафтана, кто затягивал пояс или ремень поверх однорядки, кто просто выскакивал без оглядки, в одной рубахе и босиком или еще хуже того – об одном сапоге. Женщины начинали кое-где голосить, дети, перепуганные общим настроением и толками, кричали и плакали. Тревога изображалась на всех лицах и становилась общею.
– Да кто звонит-то? Из-за чего звонят? – спрашивали более спокойные люди, ничего не понимая в общей панике.
– А кто их знает! Вот у Николы зазвонили, и наш пономарь на колокольню полез.
– Братцы! Пойдем к митрополиту и к воеводе: они должны знать – они на то поставлены.
– Вестимо, к ним! К ним! Туда! В Кремль! К митрополиту, к воеводе! – раздались в толпе голоса и крики и, повторяемые другими толпами, привели к общему движению в одном направлении.
Толпа, все возрастая, повалила к Кремлю, запрудила улицу перед входными воротами, произвела усиленную давку в широком воротном пролете и, наконец, хлынула в кремль и залила всю площадь между соборами и между митрополичьим домом, шумя и галдя. В толпе от времени до времени слышались возгласы, и даже крики:
– Воеводу нам! Третьяка Сентова! Пусть нам объявит, какие вести!
Крики становились все громче и громче и уже начинали сливаться в один общий гул, когда, наконец, на рундуке митрополичьего дома явились сначала дьяки, потом воевода Сентов, высокий, плотный, здоровый мужчина, лет пятидесяти, с очень энергичными и выразительными чертами лица. Вслед за Сентовым вышел и сам митрополит Филарет Никитич, в темной рясе и белом клобуке с воскрыльями, которые опускались ему на плечи и грудь. Мерно и твердо опираясь на свой пастырский посох, он остановился на середине рундука и величавым, спокойным движением руки стал благословлять толпу во все стороны.
Толпа разом смолкла. Шапки, одна за другою поползли прочь с голов, а руки полезли в затылок, и те, что еще за минуту кричали и галдели, теперь присмирели. Переминаясь с ноги на ногу, не знали, что сказать, как приступить к делу.
Филарет обвел всех спокойным и строгим взглядом и произнес:
– Зачем собрались вы, дети мои? Какая у вас забота?
Этот вопрос словно прорвал плотину – отовсюду так и полились и посыпались вопросы и жалобы:
– Вести! Вести, какие? Воевода нам их скрывает,… Хотим знать… Сказывайте, какие вести?…
Филарет обратился к воеводе и сказал ему:
– Сказывай им все, без утайки.
Воевода приосанился и громко, так громко, что слышно было во все концы площади, сообщил:
– Суздаль врасплох захвачен литвой и русскими изменниками. Нашлись предатели и в городе, и не дали добрым гражданам простору биться с ворогами. Владимир предан тушинцам воеводою Годуновым, который забыл страх Божий и верность присяге, не стал оборонять города, хотя и мог – и войска, и народу и зелья было у него полно…
Переяславцы же и того хуже поступили: злым ворогам и нехристям, грабителям и кровопийцам навстречу вышли с хлебом-солью и приняли их, как дорогих гостей…
Вот вам наши вести…
Воевода замолк – и толпа молчала, довольно-таки сумрачно настроена.
– Бежать надо от ворога! Бежать всем городом! – раздались крики.
– Православные! – начал Филарет. – С душевной скорбью вижу я, что помыслы все ваши только о мирском. Заботитесь о животах, о жизни, о покое своем, бежать собираетесь… Почему не позаботитесь о Божьем? О храмах ваших, о святых иконах, о мощах угодников, о благолепном строении церковном, вами же и вашими руками созданном, из вашей лепты! Почему не вспомните могилы отцов и дедов и почивших братий ваших! Или и это все возьмете с собою? Или и это все вы понесете в дар лютым ворогам и скажите им: возьмите, разоряйте, грабьте, оскверняйте – только нас, робких, пощадите за смиренство наше. Так что ли! Говорите, так ли? – Филарет обвел передние ряды вопрошающим взглядом: никто ни слова не проронил ему в ответ.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: