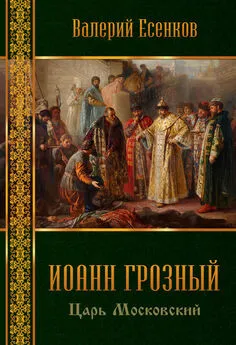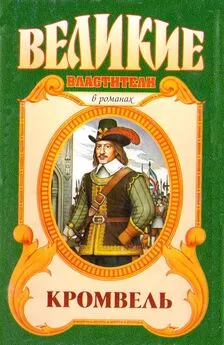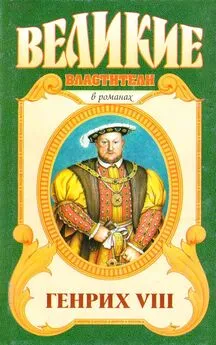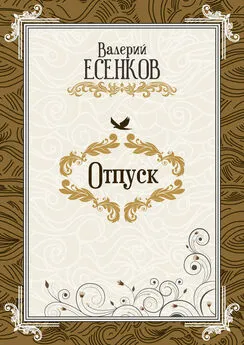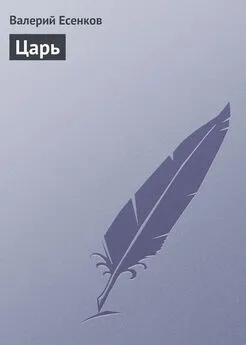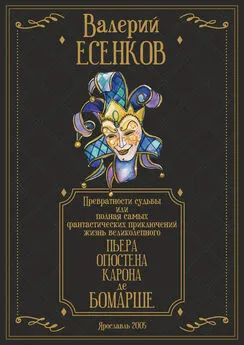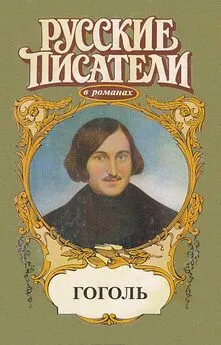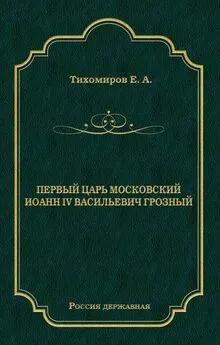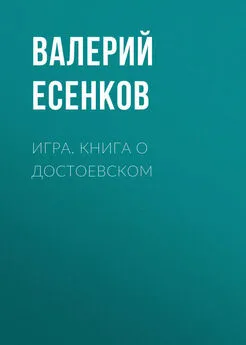Валерий Есенков - Иоанн царь московский Грозный
- Название:Иоанн царь московский Грозный
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:5-88610-076-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Валерий Есенков - Иоанн царь московский Грозный краткое содержание
Иоанн царь московский Грозный - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Нынче невозможно хотя бы с приблизительной точностью установить, когда именно в первый раз посещает его благая мысль сложить с себя царское звание и, приняв обет, навсегда затвориться в спасительные монастырские стены. Может быть, ещё в те малоизвестные, темные годы тяжкого детства и отрочества, когда добросовестный митрополит Иоасаф впервые выставлял перед ним со всей притягательной силой соблазна возрождающую прелесть православного иночества и жития во Христе. Во всяком случае едва ли можно оспорить, что в его растревоженную, болезненно уязвимую душу очень рано и глубоко западает это искусительное желание, и он начинает примериваться к монастырским порядкам, каким-то образом чуть ли не готовить себя к исполнению строжайше составленных старинных уставов, хотя бы необязательным для него детальным знакомством с правилами монашеской жизни, определенными святым Василием Великим, и так притягательно для него полнейшее отречение от земных бесчинств и злодейств, что каждый пункт этих правил остается в его памяти навсегда. Недаром путеводной нитью для его духовного мира становятся знаменитые слова апостола Павла:
«Ты уверен, что ты путеводитель слепым, свет для находящихся во тьме, наставник невеждам, учитель младенцам, имеющий в законе образец знания и истины; как же, уча другого, не учишь себя самого? проповедуя не красть, крадешь? говоря «не прелюбодействуй», прелюбодействуешь? гнушаясь идолов, святотатствуешь? хвалишься законом, а нарушением его досаждаешь Богу?..»
Сам он учиться готов и учится с жадностью, без принуждений, без понуканий со стороны, без вечных в таких случаях подзатыльников и стояний на коленях в углу, когда на горохе, когда на соли. Беда только в том, что если не имеется недостатка в примерах нравственной жизни, какими служат ему благочестивее иноки, то возможности вполне развить свой жаждущий ум, приобрести разнообразные сведения, чему-нибудь научиться в прямом смысле этого слова не существует совсем. Науки в любом её виде, в любой разновидности, науки хотя бы в самом зачаточном состоянии вовсе не существует на Русской земле, так что всякий жаждущий ум обречен либо бесплодно вращаться в безвоздушном пространстве неведенья, либо развиваться самобытно, диким способом, из себя самого, как сплошь да рядом и происходит со всяким одаренным русским умом.
В самом деле, читать Иоанна учат, как в те времена учат без исключения всех: он затверживает наизусть Часослов и Псалтирь. Его редкая память прочно удерживает не только пренебрежение и обиды безотрадного детства, но и всякого рода сентенции, в том числе на всю жизнь закрепляет и те, которые он впервые почерпнул именно из этих двух основополагающих книг. Однако что же такое сентенция? Сентенция – это бесспорная аксиома, это неопровержимая догма, которая призвана убеждать сама по себе, без доказательств и толкований, своим прямым, непосредственным содержанием, не допуская сомнений, а потому и не приводя к размышлению. «Несть власти, аще не от Бога», какие тут могут возникнуть сомнения у верующего, притом у великого князя? О чем после такого указания размышлять? В сознании такого рода сентенции входят, как гвозди, они укореняются, их невозможно вырвать даже клещами, но они никак не задевают, никак не затрагивают самую способность мыслить, соображать, сопоставлять одну мысль с другой. Нравственные сентенции, как партийные лозунги, делают принявший их ум неповоротливым и тугим, устраняя самую возможность самостоятельного решения. Ум, напичканный сентенциями и лозунгами, не стремится исследовать, познавать тайную, внутреннюю природу вещей, он в лучшем случае механически приобщается к природе вещей, создает их бесцветный или красочный образ, как это свойственно впечатлительному мечтателю или поэту, и чем импульсивней, чем нетерпеливей натура, тем более необоснованным, беспорядочным грозит сделаться действие, основанное на впечатлении, а не на последовательном и кропотливом постижении истины.
Да и откуда свалится стремление исследовать и познавать, когда самый принцип исследования находится под строжайшим запретом наглухо отгородившейся от всего мира, наглухо замуровавшейся в своем православии русской церкви, когда, с той поры, как пришедшее на Русь христианство в борьбе с язычеством огнем и мечом истребило и выжгло малейшие зачатки астрономии, математики, естествознания, медицины, не допускается любая книга на любом языке, ели в ней содержатся сведения из арифметики, астрономии или физики, а предсказание солнечных или лунных затмений, лечение травами расценивается как чародейство, как несомненное колдовство? Из какой субстанции сплетется сомнение, когда в московском обществе распространяются только книги религиозного содержания, когда из четырех сотен книг библиотеки Троицкого Сергиева монастыря более сотни экземпляров Евангелия, а среди прочих сборников, содержащих распорядок богослужения и поучения отцов церкви, каким-то чудом обнаруживается один-единственный философский трактат?
Чтобы процесс мышления получил возможность начаться и двигаться далее по нормальному руслу, самому сильному, самому начитанному уму необходим диалог, а какой диалог может возникнуть в уме тринадцатилетнего отрока, если у него под рукой всего лишь Часослов и Псалтирь, которые он уже лет семь или восемь как затвердил наизусть? В то время, когда в Европе в самом разгаре жаркая полемика между последователями Аристотеля и последователями Платона, когда английский король Генрих, которого нередко припоминают рядом с именем Иоанна, имеет возможность беседовать с Эразмом из Роттердама или Томасом Мором, самыми образованными, самыми думающими, самыми творческими умами первой половины столетия, московскому великому князю не с кем, в прямом смысле этого слова, поделиться своими раздумьями, поскольку рядом с ним не то что творческого, даже сколько-нибудь образованного, думающего ума, обыкновенного книжника, под именем которого до сих пор на Русской земле, где большая часть попов и монахов не умеет ни читать ни писать, разумеют ученого человека. Ему не с кем и не над чем упражнять свой тоскующий ум, поскольку большая часть споров между духовными лицами, а следом за ними также и среди наиболее любознательных прихожан вертится вокруг таких логическим путем абсолютно не разрешимых вопросов, как вопрос о том, может ли поп, не спавший всю ночь после ужина, утром совершить литургию, в какую сторону следует ходить во время богослужения и сколько перстов правой руки необходимо употребить, чтобы осенить грудь свою крестным знамением, тем более не имеется ни малейшей возможности серьезно приготовить себя к государственной деятельности, поскольку общественные вопросы не обсуждаются вовсе.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: