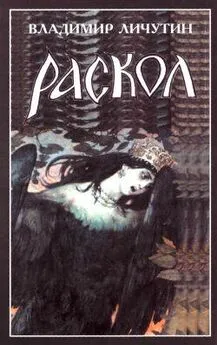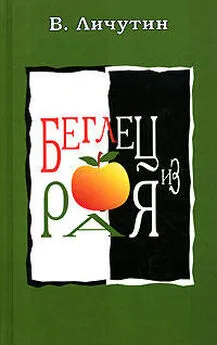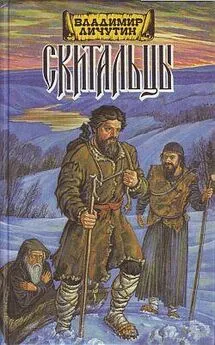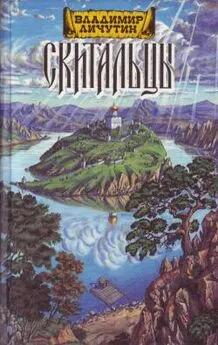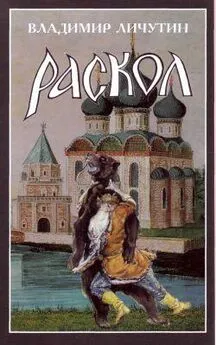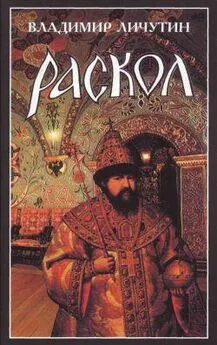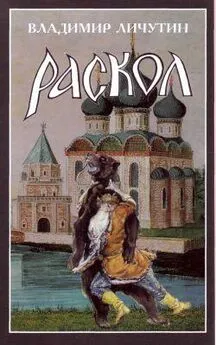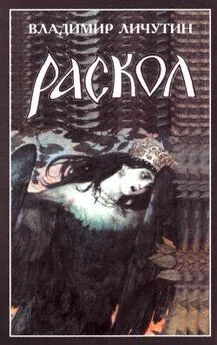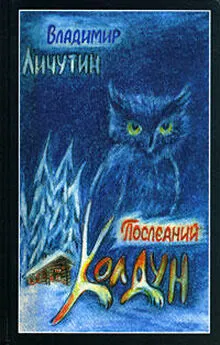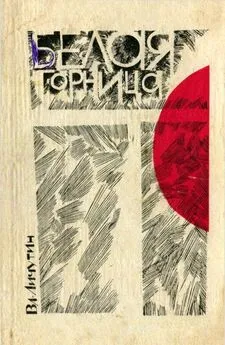Владимир Личутин - Раскол. Книга III. Вознесение
- Название:Раскол. Книга III. Вознесение
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ИТРК
- Год:2008
- Город:Москва
- ISBN:5-88010-244-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Личутин - Раскол. Книга III. Вознесение краткое содержание
Раскол. Книга III. Вознесение - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
У Артемона Матвеева тут же отняли из-под начала аптеку, чтобы не залечил он юного царя, ссадили из посольского приказа и удалили из Москвы. На его место встал думный дьяк Ларивон Иванов.
Матвеев с сыном и племянником отправились в почетную ссылку: при них были монах, священник, учитель сына польский шляхтич Поборский, большая дворня; взяты были две пушки для обороны. Но в Лапшеве Матвеева остановили: приехал полуголова московских стрельцов Лужин и потребовал книги лечебника, в котором многие статьи писаны цифирью, потребовал двоих людей – лекаря Ивана Еврея и карлу Захара. Матвеев отвечал, что книг нет, а людей выдал. С Матвеева взяли сказку о том, как составлялись и подносились лекарства больному царю. Матвеев показал, что лекарства составлялись докторами Костериусом и Стефаном Симоном по рецептам, а рецепты хранятся в аптекарской палате. Но выяснилось со слов дядьки государева князя Куракина и боярина Хитрова, что он, Матвеев, никогда не допивал остатков. И боярин остался в сильном подозрении, что это он преж времен свел Алексея Михайловича в могилу.
… А лекарь Давыд Берлов донес, что лечил он у Матвеева человека его, карлу Захара, и тот говорил ему, что болен от господских побоев. Однажды он заснул за печью в полате, в которой Матвеев с доктором Стефаном читали черную книгу; в это время пришло к ним множество злых духов и объявили, что есть у них в избе третий человек. Матвеев вскочил и, найдя его за печью, сорвал с него шубу, поднял, ударил об пол, топтал и выкинул из палаты замертво.
Берлов прибавил, что сам видел, как Матвеев с доктором Стефаном и переводчиком греком Спафари, запершись, читали черную книгу. Спафари учил по этой книге Матвеева и сына его Андрея. Матвеев хотел было оправдаться, но дьяк Горохов крикнул: «Слушай, молчи, а не говори!»
Давыдка Берлов и карла Захарка были в тех словах многажды пытаны и огнем, и клещами, дыбою, но перед патриархом и боярами сказывали прежние речи.
У Матвеева отняли боярство, все имение, дали с собою только тысячу рублей и сослали в Пустозерск вместе с сыном.
– Нам с тобой, протопоп, не по пути, – десять лет тому говорил Артемон Матвеев опальному Аввакуму, придя к нему в темницу на увещевание и не добившись от того толку.
А нынче, вот, сам отправился за караулом той же тяжкою дорогою на вечное житье.
Как в давние дни московского мора, карла Захарка опять остался без прислона; мать умерла, а все благодетели как-то разом отвернулись от него, выгнали на улицу.
Обильная была московская зима снегами, и, путаясь меж сугробов, карла искал тепла. Из питейного дома у Воскресенского моста вырывались клубы пара, вываливались до ветру разгоряченные питухи, чтобы хватить морозного воздуха и разбавить угар. Захарка невольно зашел в кабак, чтобы выпить на денежку. Морщиноватый, густо поседевший, жалконький, посиневший от холода, карла походил на брошенную собачонку. Редкий бы кто отважился пожалеть его, но каждый готов был пнуть…
Ивашка Светеныш сидел с краю стола, он был пьяней вина и безобразен распухшим безносым лицом и обвислым животом. Бывший царский палач пропивал свой неразменный рубль и никак не мог истратить его. Рубль вгонял Ивашку в могилу. Светеныш тупо уставился на карлу, неловко погладил его по голове. «Ах ты, уродец мой!» – сказал, заикаясь, и беззлобно засмеялся. На беззубом рте спеклась слюна, борода свалялась в пестрые клочья.
«Ты кто?» – спросил бывший палач Захарку.
«Я смерть твоя. А ты кто, красавчик?..»
«Я жених твой…»
Светеныш снова засмеялся, сгреб карлу в горсть, посадил на колени. От рыхлого плотного живота стало Захарке тепло и уютно. Он глотнул из Ивашкиного крюка горелого вина, сразу захмелел, прикрыл завлажневшие тусклые глаза. В голове не было никаких мыслей. В носу защипало, захотелось плакать. Карла выпил еще и еще, разогрелся, скоро задурел; временами в голове прояснивалось. Светеныш, изображая лошадь, бегал на коленях вокруг длинного стола, смешил ярыжек, а Захарка, восседая на широкой мягкой спине, поддавал по ягодицам.
Очнулся карла на улице. Его вытошнило, и сразу полегчало в животе. Захарка потерся губами о порты спутника, вытер лицо. Светеныш и не заметил его проделки. Пошатываясь, он стоял посреди заметенной площади, по которой гуляли, вставая в небо, снежные змеи, и бездумно, тоскливо смотрел за Васильевский спуск в клубящуюся мглу над Москвой-рекой, где варилась вьюжная буча. Заметно вечерело. На Пожаре у рогаток стрельцы уже запаливали ночные костры, и бездельный нищий люд стекался к огню, чтобы как-то скоротать время до утра. Надо было домой попадать, а ноги не несут. Да и где дом тот? где ждут распьянцовскую душу, в коей совесть, сказывают, совсем истрепалась и едва дышит на последнем вздохе. Ау, где ты?! – вопросил Светеныш в никуда и вдруг разрыдался, как малое дитя. В заплесневелых, склизких, как улитки-мокрицы, глазах родилось подобие слезы, в озеночках нестерпимо резало, будто надуло песку.
Захарка понял несчастье нового товарища, потерся щекой об овчинный кожушок, повернув полу к себе обратной курчавой стороной. Задрал лицо и сказал:
«Оба-два мы с тобой сироты. И чего жили?»
«Не… Я-то погулял, я винца добро попил. На, теперь твой черед…»
Старик сунул карле неразменный рубль. Захарка взвесил в горсти тяжелую серебряную деньгу; от нее шло живое хмельное тепло.
«Светеныш, пойдем в мою землю. Там яблоки растут с твою окаянную голову, арбузы с жернов, а хлеб с оглоблю. Там бабы молоком умываются, у них титьки по пуду…»
«Пойдем, – готовно согласился Светеныш. – Я люблю баб, которые в молоке купаются. Их понюхать, так они коровой пахнут… А где твоя земля, Захарка?»
«За тем вон холмом», – карла показал на вихревую снежную тьму.
И они поволоклись за Москву-реку. Пологий спуск и сугробы потиху скрадывали, упрятывали шальные головы… Где-то шапки порастеряли, бедолаги, и креста на них нет. Скоро ночь застанет, и на какую еще случайную жизнь позарятся непути, слыша свою близкую собачью смерть.
Глава седьмая
Снег любые грехи прикроет. Разве что весною вытают околелые, но всем своим измерзшимся, закаменевшим видом уже не вызовут прежнего участия; вседневные заботы скоро изъедают любое, даже очень сильное жальливое чувство. По живым страдать-то надо, а мертвых уже Бог пожалел, к себе прибрал. Счаст-ли-вые…
Вороны уже не роются по-за стенами, не пурхаются в снегу за стрелецким кладбищем. Им хватает повешенных. Те жутко, как говяжьи неразделанные туши, болтаются на виселицах напротив Святых ворот и на редких березах близ губы Глубокой, наводя грусть на редких монахов, что остались вживе. Зловещие птицы деловито долбят мерзлое мясо; какая долгая, обильная трапеза досталась в наследство; эк сколько поживы в несчастный для обители час кинул воронью сатана, сердобольный до своей рати. Пируйте, тучнейте, дьяволи слуги, до вешнего солнышка, до пробежистых звонких ручьев, пока-то тяжелый дух не потянется в монастырь, и тогда даже самая закоснелая черствая душа очнется от содеянного и поспешит упрятать следы своего злодейства поглубже в землю.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: