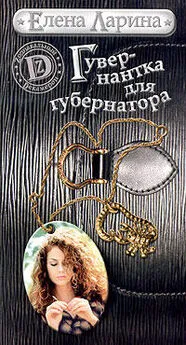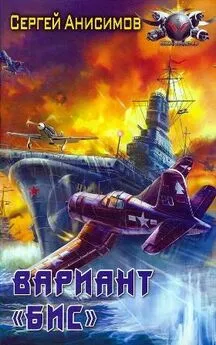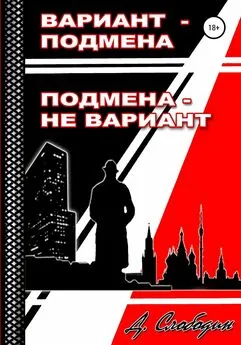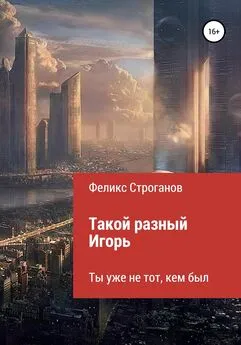АБ МИШЕ - ЧЕРНОВОЙ ВАРИАНТ
- Название:ЧЕРНОВОЙ ВАРИАНТ
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:VERBA Publishers
- Год:1994
- Город:Jerusalem
- ISBN:965-424-013-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
АБ МИШЕ - ЧЕРНОВОЙ ВАРИАНТ краткое содержание
...огромное, фундаментальное исследование еврейского вопроса, затрагивающее все области гуманитарного знания и все этапы тысячелетней диаспоры. ...перед нами не «ворох материала», а тщательно выверенная и проработанная система фактов, событий и цитат, имеющая художественную логику и духовную сверхзадачу. Эта логика и эта сверхзадача имеют отношение к коренным закономерностям нашего общего сегодняшнего бытия. Кто-то должен был написать такую книгу. Её написал Аб Мише.
Лев Аннинский, Москва
Говоря об этой книге, невольно подражаешь её внутреннему ритму. Взятый в плен уже с первых страниц, погружаешься во многоголосие хора, который точнее назвать бы адской какофонией несоединимых, взаимоисключающих криков боли и гнева, взвизгов и хрипов животной ненависти, гневных и беспощадных проклятий, визга крысы с прищемлённым хвостом рядом со скорбным речитативом поминальной молитвы. Это разноголосие неумолимо всверливается в душу, так как стремительно вращается вокруг единой оси - трагической судьбы еврейского народа. ...Сила "Чернового варианта" - в справедливом бесстрашии правды. ...книга Аб Мише - о том невероятном... что может оказаться лишь черновым вариантом нависшей над миром катастрофы, если он так и не научится пользоваться опытом ушедших поколений.
«Новое Русское Слово» (Нью-Йорк)
"Черновой вариант" — это смерть и жизнь, мрак и свет, кровь и бой... И злоба, глупость, подлость, трусость... И Вера. И Любовь. И Добро.
«Алеф» (Израиль)
ЧЕРНОВОЙ ВАРИАНТ - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
А вокруг роскошествовали солнечные закаты, дурманила чернота ночного неба, изгибалась зеленая морская волна, неистовствовали цвета садов и птиц - красота питала душу мальчика и мысль юноши, и став мужчиной, он уже знал, что ему - рисовать, что его малая человеческая правда таится на острие его кисти и суждено ему пролить в муть мира светлую каплю великой Божьей правды - правды Любви. “Если имею дар пророчества и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто”, - так по-гречески записано еврейское слово христианского апостола.
...К двадцати годам он крестился. И пошел по земле - учиться. Тер краски мастерам, месил левкас - приглядывался, вникал, сам писал... На сербских фресках он увидел Богоматерь. Величие печали и счастье чуда... Его обожгло.
Возвратясь в Византию, он приткнулся к Мистре - пленительно сплелись в этом городе мирские соблазны и суровость старины, мистика исихазма и дворцовая роскошь, ярость базара и величие богослужения. Веселые богомазы - не аскетичные константинопольские монахи, а вольные живописцы, балагуры, выпивохи - могли выучить его и озорству, и сложной графике фресок, и умению пляской красок взбудоражить евангельский сюжет.
Сочная мощь плескалась в росписях церквей Мистры, и в нем, молодом, бродила такая же неизбывная сила. Все он успевал: искать смысл бытия и ввязываться в уличные распри, тешить душу то мудростью отшельничества, то братством художнической артели, и бражничать беспамятно, и поститься перед сложной работой, и выслеживать в самом себе робкий проблеск истины, и уверенно подниматься в признанные умельцы, и жениться на тихой Анне и вечерами наслаждаться иконным овалом ее лица и топотом уже трехлетнего сына - жизнь текла, счастьем искрясь, пока не нахлынул черный вал турецкого нашествия.
Он попал в плен и случайно бежал, вернулся в город, где уже опало пламя пожаров и кровь зарезанных запеклась на фресках разрушенной церкви. Растоптанный лошадью труп сына в уличной пыли, безумие изнасилованной янычарами Анны, - а он остался живым и в здравой памяти, только голова побелела и руки тряслись...
Византия умерла. Ее умники и мастера - живописцы, книжники, зодчие - потянулись в ласковую Италию, на гостеприимные Балканы... А он счел, что Божий промысел сохранил его для служения христианской Правде, и Русь, византийством свое православие пестующая, казалась наиболее желанной ему. Похоже, он верно угадал Божью волю, ибо уже на третий год пребывания в Московии руки его окрепли и он снова мог работать.
Особым расположением судьбы, знаком избранности, следовало счесть и то, что за десять лет бродяжничества по русским землям он не только насмотрелся на слезы и пот, пьяный рык, кровь княжеских расправ, празднество храмов, чистоту зорь и звон свадеб - не только проникся Русью, вжился, врос в эту холодную наивную несчастную страну, но и наработал – по городам, по серым весям, по монастырям, заказами большими и малыми, в одиночку трудясь и в артелях, - наработал себе такую славу, что зван был в знаменитую подмосковную обитель расписывать собор Рождества Богородицы.
Выдалось лето ему по душе - бурное. Старшему монастырской артели, старцу-иконнику, до замшелости обросшему славой, противна была нездешняя легкость кисти иноземца: “не по-русски все у него, у свистуна, не по-людски” - разругались они так, что он даже бросил работать: ноги, мол, болят. Игумен кое-как сладил: “Делите храм: кому чего писать, а там Бог пособит...”. Игумен ему, не как другим, многое спускал: строптивость, дерзкий разговор, гульбу в окрестных деревнях, даже когда он тайно, монахам-постникам в соблазн, натаскал в монастырь жареной баранины, - не только простил, еще и выхаживал его после отравления тем мясом, увядшим в тайнике.
Игумен - хитрюга, внук татарина и Москве друг душевный, - не зря мытарился. Как зазвали на богомолье великого князя - замаслились радостно игуменовы узкие глаза: ублажила роспись грозного Ивана Третьего. Мягкий рисунок византийца - как песня девичья, как волна травы под ветром – живая благодать горнего мира, тихая ласка Богоматери-заступницы за Русь. Чудно овеялось православное благолепие исконным русским духом, расшевелились строгие фигуры, разыгрался язычеством орнамент - христианское песнопение под сопилки, под бубны, трещотки... Свет Ярилы на библейских ликах...
Дерзко, у греха на краю, - подумал Иван, - но как еще растолковать русскому лапотнику, что есть его корень, показать ему, несмышленышу, величие и силу земли его, любимой Богом...
Еще любезнее государеву сердцу была идея Божественной сущности самодержавной власти, потому и задержался Иоанн перед сценами вселенских соборов, где церковники вершили свои дела под начальственным присмотром императора. Удельные неслухи нет-нет да и норовили выползти из московского кулака - рожей бы их в эти фрески...
Ничего тогда не вымолвил великий князь, но спустя годы, когда подняла Москва собор Успенья Богородицы в Кремле, украсить главный свой храм велел Иоанн Васильевич тому иконнику.
Он возглавил артель: вчетвером за год управились – ахнула Москва, восхитясь. Скупой Иоанн не пожалел артели ста рублей: по тогдашним ценам пять, а то и шесть деревень с землей, скотом, мужиками... Но дороже денег была слава: лучший, говорили, богомаз на Руси, вровень Рублеву, среди художников -”началохудожник”, среди мастеров - Мастер.
Накопив мытарства и труды, жизнь разразилась успехом. Богатые хоромы в Москве, недалеко от Кремля, прислуга, русалочьи-гладкая жена и двое сыновей, в которых смешение местной и чуждой крови проступало красотой, статью и способностью к иконописи. Сытное житье. Работа, веселящая душу, и неутомительная суета благополучия...
За покой приходилось, конечно, платить. И не только трудом. Вокруг колобродила Москва - он был в ней, с ней, и, многое видя, заставлял себя многое не замечать. Великий князь пригласил на пир брата и, обманув, заточил; государыня Софья, гречанка ватиканского воспитания, улыбалась тем ослепительнее, чем кровавее разворачивала очередную интригу; православные пастыри тонули в лихоимстве и блуде; бояре топтали
мужиков, народная мудрость полыхала в кабаке... Лекарь великого князя, венецианец Антон, не сумел вылечить татарского царевича, жившего в Москве, - Иоанн повелел: зарезать. И на льду Москва-реки, под радостный гогот зевак, ученого медика, как овцу, - ножом по горлу. Среди толпы на берегу Аристотель Фиораванти в ужасе тряс бородой, ругался: “Проклятая земля, неблагодарные дикари... уехать к дьяволу...” Донесли Иоанну - славный Аристотель, строитель Успенского собора, незаменимый и в ратном деле, и в литейном, и в зодчестве, угодил в темницу...
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: