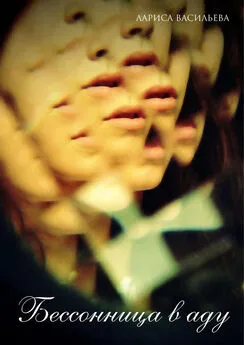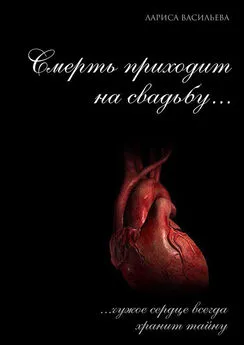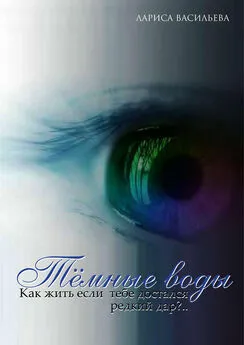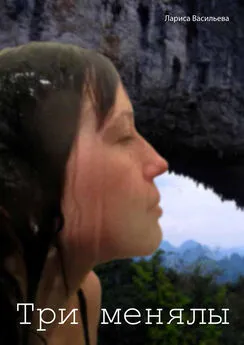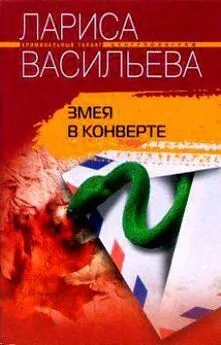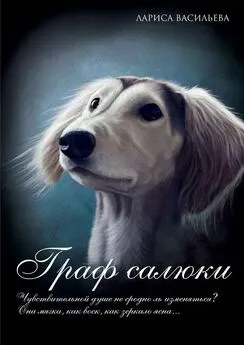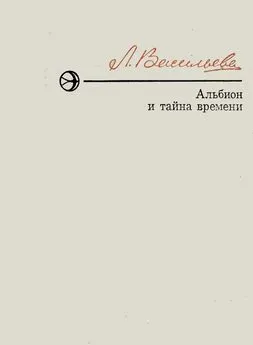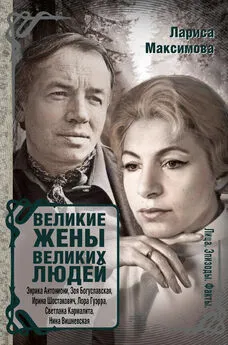Лариса Васильева - Кремлевские жены
- Название:Кремлевские жены
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Лариса Васильева - Кремлевские жены краткое содержание
Кремлевские жены - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
«Памятники, воздвигнутые в честь царей и их слуг и не представляющие интереса ни с исторической, ни с художественной стороны, подлежат снятию с площадей и улиц».
И полетели с пьедесталов исторические фигуры. Сегодня многие из них водружаются на прежние места и летят с пьедесталов уже не царские, а большевистские монументы. И то и то варварство. Вандализм.
Тогда, в 1918 году, Совнарком рассмотрел и одобрил список новых памятников великим людям, дополнив его именами Баумана, Ухтомского, Гейне. В этом списке рядом с именами Гоголя, Пушкина, Лермонтова, Герцена, Ломоносова, Кипренского, Добролюбова, Чернышевского и других стояли имена Спартака, Тиберия (без Гая. — Л.В.), Гракха, Марата, Робеспьера, Гарибальди, Сен-Симона, Фурье, Бебеля, Жореса, Лафарга — революционеров всех времен и народов. Москва мерещилась разгоряченному воображению победителей столицей всемирных революций, Меккой революционного движения всех народов земли.
Среди этих монументов, которым вряд ли хватило бы московских площадей, пришлось бы украшать ими скверы и даже дворы, предполагался и памятник Льву Толстому, часть произведений которого была запрещена. С одной стороны — вредный писатель, с другой — великий. Художественные произведения издать, философские — изъять, но памятник поставить и Ясную Поляну сохранить.
Мне всегда казалось, что за отношением Владимира Ильича к Толстому стояла Надежда Константиновна, с юности душой привязанная ко Льву Николаевичу, и если она смирялась перед большевистским желанием видеть в Толстом зеркало русской революции, то лишь в порядке партийной дисциплины.
Мне также казалось, что в нужный момент Надежда Константиновна умела смягчить суровость мужа по отношению к Толстому лишь ей одной ведомым способом, который она не всегда безуспешно применяла в разных других случаях своей поистине исторической жизни.
Участвуя в решении, какие памятники должны стоять в Москве и какие книги читаться народом, Надежда Константиновна стояла у своего детища — машины, которая должна была производить психологию и мышление новых людей, и ничего с большевистской точки зрения вредного, пусть даже великого, не должно было просочиться в новые головы строителей коммунизма.
Но как совместить: образованнейшая Надежда Константиновна, сделавшая так много для всеобщей грамотности России, позволила себе запретить книгу?! Одной рукой созидала, другой разрушала? Противоречие?
Нет.
Воспитанная тюрьмой и ссылкой, возросшая на запрещенной литературе, на печатании запретных листовок и воззваний, она не видела криминала в запрещении книги как таковой. Корни ее поступка лежат в прошлом нашего отечества, и не признаться в этом — значит спрятать голову под крыло: вспомним хотя бы судьбы русских поэтов начала девятнадцатого века, их прижизненную подцензурность и трагизм.
В чужих отечествах были свои книжные костры — это старо как мир.
Инквизиторша…
Назови ее тогда так, удивилась бы. Она старалась для будущих поколений, очищала их от литературной скверны, с «чуковщиной» боролась, мечтая создать замечательного, усредненного человека нового общества без ненужных поисков и нервных отклонений в ушедший мир. Без корней. Или с обрубленными корнями. Среди невольных ее учителей в этом деле, несомненно, и Лев Николаевич: его давнее желание переделывать, переписывать чужие книги случайными руками, запавшее с юности ей в душу, разве не несло в себе инквизиторских черт?
В этой своей роли, как, впрочем, и во многих других, Крупская была менее всего женщиной. Соратником. Борцом. Сопредседателем всего самого большевистского. Соучастником. В мужском роде и в мужском деле. Создавая школьные и пионерские циркуляры, она отлично подлаживала их под мужскую властвующую структуру, в которой девочки и мальчики как разные существа почти неразличимы.
Другим кремлевским избранницам оставалось брать с нее пример.
Высшие чины Кремля жили внутри стены с 1918-го по середину 50-х годов.
Я была в кремлевских квартирах и запомнила тяжелую темную дверь, потом лестницу, потом опять тяжелую дверь, а за ней — ярко освещенный узкий коридор со сводами. Красный длинный ковер с зеленой разрисованной каймой. Вдалеке зеркало, вдвое удлинявшее коридор.
Поэт Владислав Ходасевич бывал в этом коридоре в начале двадцатых, я — в середине сороковых, но коридор за двадцать пять лет не изменился. Воспоминания Ходасевича так и называются: «Белый коридор». Мне придется несколько раз обращаться к ним по ряду причин. Одна из них — очень яркое, пожалуй, единственное в своем роде, художественно-документальное описание первых лет жизни вождей в Кремле.
Ходасевичу понадобилось прийти к Каменеву с просьбой о жилье. Каменев был тогда председателем Московского Совета. Поэт воспользовался тем, что жена Каменева, Ольга Давидовна (она же родная сестра Троцкого), курировала пролетарское искусство и покровительствовала поэтам.
«Дверь Каменевых, — пишет Ходасевич, — в самом конце белого коридора, направо. Мягкая мебель — точно такая, как у Луначарского: очевидно, весь белый коридор ею обставлен. Выделяется только книжный шкаф, новый, темно-зеленый. Подхожу, вижу корешки. Улыбаюсь. Грабари, Бенуа, „Скорпионы“ да „Альционы“ глянули на меня из-за стекол каменевского шкафа. Много книг, и многое, вижу, не разрезано. Да и где же так скоро прочесть все это? Видно, что забрано тоже впрок, ради обстановки и для справок на случай изящного разговора. В те дни советские дамы, знавшие только „Эрфуртскую программу“, спешили навести на себя лоск. Они одевались у Ламановой, ссорились из-за автомобилей и обзаводились салонами. По обязанности они покровительствовали пролетарским писателям, но „у себя“ на равной ноге хотелось им принимать „буржуазных“».
С тех самых пор пошла раздвоенность: с буржуазией борются, а сами млеют от удобств ее быта; капитализм клеймят, а сами ездят в капиталистических «Роллс-Ройсах», не имея отечественных автомобилей; эксплуататоров ненавидят, а сами уже сидят на шее народа со своими «временными» привилегиями, которые с каждым днем захватывают все большие слои разрастающейся партократии — людей, обслуживающих партмашину; буржуазную и дворянскую интеллигенцию преследуют, дома разоряют, а принадлежащие им книги себе берут.
Но вернемся к Ходасевичу.
«Мы с Ольгой Давидовной коротаем вечер. Она меланхолически мешает угли в камине и развивает свою мысль: поэтами, художниками, музыкантами не родятся, а делаются, идея о прирожденном даре выдумана феодалами для того, чтобы сохранить в своих руках художественную гегемонию; каждого рабочего можно сделать поэтом или живописцем, каждую работницу — певицей или танцовщицей: дело все только в доброй воле, в хороших учителях, в усидчивости…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: