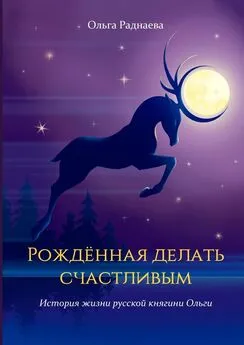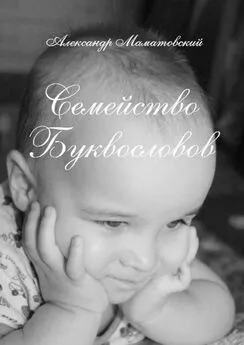Филипп Вейцман - Без Отечества. История жизни русского еврея
- Название:Без Отечества. История жизни русского еврея
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:1981
- Город:Тель-Авив
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Филипп Вейцман - Без Отечества. История жизни русского еврея краткое содержание
Автобиография эмигранта, уехавшего в 50-е годы в Италию и затем в Израиль.
Без Отечества. История жизни русского еврея - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
«Провинившийся рядовой, Дмитрий Вейцман, своим непростительным поведением, и не соблюдением самых простейших правил военной дисциплины, объявляется недостойным носить оружие и защищать Матушку Россию и Батюшку Царя, а потому Военный Трибунал постановляет: немедленно переключить виновного из полка действующей армии в такую-то военную канцелярию, в глубокий тыл, где он будет принужден служить в качестве простого писаря, до самого окончания войны». Так ему и следует!
Вскоре он крестился и женился на дочери своего бывшего полковника.
Брак был счастливым.
Часть Шестая: Родители моей матери
Глава первая: Мой дед
Отец моей матери, Павел Михайлович Цейтлин, родился в 1849 году, в городе Бахмуте, в самом сердце Донецкого Бассейна. Происходил он из очень бедной еврейской семьи, и с ранней своей юности был принужден зарабатывать на жизнь. О таких как он, людях, говориться, что они учились на медные деньги, но по правде сказать, мой дедушка на свое образование за всю жизнь не истратил и медного гроша. Впрочем, в детстве его обучили еврейским молитвам, но этим и ограничился весь пройденный им курс наук.
Совсем еще молодым он покинул Бахмут, где для него не имелось работы, и приехав в Мариуполь, сделался приказчиком, при хлебных амбарах, в порту. Быть может, в начале своей карьеры, он был простым грузчиком. В возрасте двадцати трех лет он поступил на службу к некому Чебаненко, богатому хохлу, оптовому торговцу зерном. У этого последнего он прослужил, в качестве приказчика, ровно сорок пять лет, т. е. до самой Революции. К этому времени, по словам моего отца, он сделался редким, по глубине знания, специалистом зерна.
Мой дед, Павел Михайлович, был рыжеват, приземист и коренаст. В чертах его лица, и во всей его осанке было что-то монгольское. В молодости он отличался редкой физической силой и бесстрашием. Мои родители утверждали, что он одной рукой гнул подковы. Моя мама рассказывала, что когда какой-нибудь подозрительный шум пугал ночью женских обитателей их мариупольского дома, он один, с голыми руками, выходил проверять причину тревоги. Их дом находился на окраине города, вблизи тюрьмы, из которой нередко убегали опасные преступники.
Однажды утром, после одной из таких ночных тревог, были найдены, около самого дома, арестантские одежды, оставленные там беглецом.
Какого происхождения была семья моего деда? Когда и откуда прибыли его предки в страну шахт и к отлогим берегам Азовского моря? Никто на эти вопросы ответить не сможет. Известно только то, что предки моего деда, с незапамятных времен, жили на дальних окраинах Малороссии. Вероятней всего они были Хазарами: древними властителями юго-восточных степей теперешней России. Быть может, что в жилах моего дедушки текли капли крови и печенегов, и половцев, и татар. Как я уже сказал выше, мой дед не получил никакого образования, но обладая не только громадной физической силой, но и редкими способностями, толкаясь в мариупольском порту между моряками и рабочими, он выучился говорить на нескольких языках. В двадцать лет он умел молиться по-древнееврейский, понимая дословно смысл молитв, говорил, читал и писал по-идиш, и по-русски, и по-украински, и бегло объяснялся по-немецки и по-ново-гречески. В то время, на всем юге России проживало немало немцев-колонистов и греков. Кроме филологических способностей, у моего деда были, несомненно, еще и математические. Эта склонность к точным наукам существовала, по-видимому, в его семье, так как один из его племянников сделался впоследствии профессором математики при Московском Университете.
Однажды, тетя Берта, вторая сестра моей матери, вернувшись из женской гимназии, в которой она училась, и просидев безрезультатно битых два часа над алгебраической задачей, пришла в отчаяние. Мой дедушка, заметив беспомощное состояние своей дочери, предложил ей показать ему задачу. Берта рассмеялась:
— Папа, да ведь это алгебра; ты в ней ничего не поймешь.
— А ты все-таки покажи мне ее, — настаивал мой дед. — К какому дню ты должна приготовить этот урок?
— К завтрашнему утру.
— Ладно.
Дедушка всю свою жизнь много курил, и имел обыкновение вставать среди ночи и расхаживать по комнате взад и вперед с папиросой в зубах. На этот раз его ночная прогулка длилась дольше обыденной, и вместо одной папиросы он выкурил две. Утром Берта встала рано с целью в последний раз попытаться решить эту проклятую задачу. Но только что она села за свой стол, как явился ее отец.
— Не трудись, дочка, твоя задача уже решена: вот результат, а вот как ее следует решать.
К величайшему удивлению и радости моей тети решение было правильное.
Родившийся в еврейской религиозной семье конца первой половины девятнадцатого века, и получивший, в качестве своего единственного образования, знание молитв и обрядов, мой дед, как это не странно, был полным и убежденным атеистом. Когда кто-нибудь заговаривал с ним о Боге, и о возможности существования загробной жизни, он неизменно отвечал:
«Не рассказывайте мне глупостей; я отлично знаю, что будет со мной после смерти: трава вырастет на моей могиле и больше ничего».
Каким образом он сделался атеистом? Кто мне это объяснит? Может быть тут играла роль то, о чем говорил один французский мыслитель:
«Если бы я был круглым невеждой, то веровал бы как бретонский крестьянин; если бы я получил некоторое образование, то наверное, отстал бы от веры, и сделался бы, быть может, атеистом; но если я, продолжая учение, достиг бы высших степеней знаний, то вернувшись к Богу, стал бы веровать в Него, как бретонская крестьянка».
Да простит меня тень моего деда, память которого мне бесконечно дорога, и которого я глубоко уважал и любил; но думается мне, что атеизм свойствен многим самоучкам. Однажды, уже отцом довольно многочисленного семейства, в угоду своей очень религиозной жене, накануне праздника Пасхи, мой дед раскладывал по углам дома кусочки хлеба (хамец), а после, с молитвой, их собирал и сжигал в печке. Двое из его дочерей, совсем еще маленькие девочки, в их числе и моя мать, ходили за ним по пятам. Вдруг он остановился, и обращаясь к ним сказал:
«Глядите, девочки, на эту комедию: я раскладываю кусочки хлеба только для того, чтобы их собрать и сжечь. Для чего это? Одна сплошная комедия».
Невежественный человек решил бы, что в этом акте заключается таинственная сила; или просто: «Так приказал Господь». Мой дедушка понимал, что никакого тут колдовства нет, и, что Господь не приказывал раскладывать кусочки хлеба; но он не знал, что такое символ, и какая сила кроется в нем. Как, порой, из-за раскрашенной тряпицы, именуемой знаменем, люди способны идти на смерть, и почему кусочки сжигаемого хлеба, являются мощным призывом для религиозного еврея к реальному очищению от всех накопившихся у него за год грехов.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:



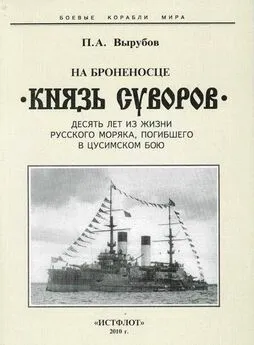
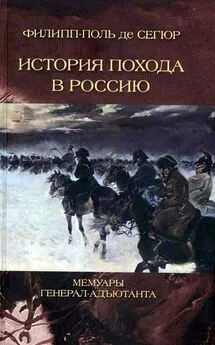


![Екатерина Гончаренко - По своему обычаю [Формы жизни русского народа]](/books/1099581/ekaterina-goncharenko-po-svoemu-obychayu-formy-zhizni.webp)