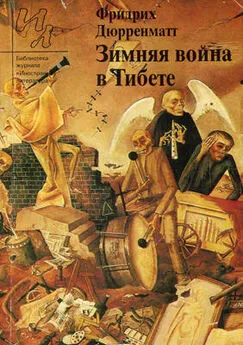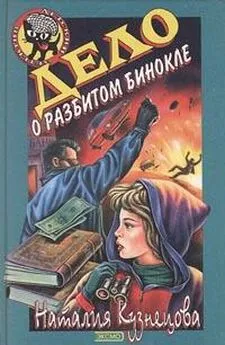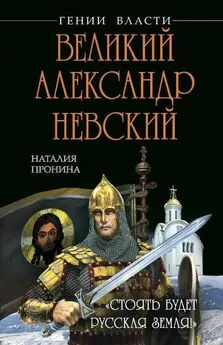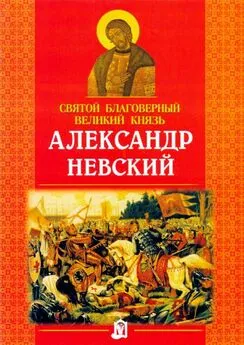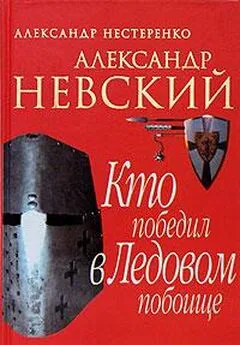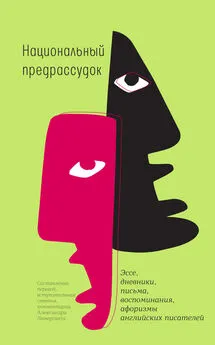Наталия Пронина - Александр Невский — национальный герой или предатель?
- Название:Александр Невский — национальный герой или предатель?
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Яуза; Эксмо
- Год:2008
- Город:М.
- ISBN:978-5-699-25630-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Наталия Пронина - Александр Невский — национальный герой или предатель? краткое содержание
Народ, неспособный защитить свое прошлое, теряет будущее.
Не случайно распад СССР начался с очернения отечественной истории. Были растоптаны многие национальные святыни, оболганы национальные герои. Ложь проникла даже в школьные и университетские учебники. Не избежал ее и Святой Благоверный князь Александр Невский.
Был ли Александр Ярославич первым на Руси «предателем коллаборационистом», как утверждают некоторые историки?
Верно ли, что он «попрал русскую свободу», войдя в «преступный сговор с Батыем» и встав на путь «позорного подчинения азиатским завоевателям»?
Наталия Пронина убедительно доказывает, что все эти обвинения насквозь лживы На страницах ее книги во всем величии своего подвига предстает великий воин и смиренный пред Богом страстотерпец за Русь, зовущий к Борьбе и Жертве, каким князь Александр был всю свою недолгую жизнь и каким навеки остался в памяти русского народа.
Александр Невский — национальный герой или предатель? - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Итак, к весне 1240 г. у организаторов немецко-датскошведской католической агрессии против Руси уже все было готово [299]. Интервенцию предполагалось начать одновременно с двух сторон: с северо-запада —силами Тевтонского ордена, а с севера —шведскими рыцарями под предводительством архиепископа Томаса, ярлов Ульфа Фаси и Биргера [300]. В шведские войска привлечены были также представители покоренных финских племен сумь и емь, и еще мурмане, т. е. норвежцы. Однако… Однако в самый последний момент тевтонские рыцари опоздали, а шведы, пройдя по Неве до устья реки Ижоры, не сумели использовать преимуществ внезапного нападения. Более того, по свидетельству летописца, командующий шведскими войсками королевский зять Биргер, зная, что помощи новгородскому князю Александру ждать неоткуда, даже отправил в Новгород кичливый вызов со словами: «Аще можещи противитися мне, то се есмь уже зде, пленяя твою землю…» [301]
Далее события развивались следующим образом: шведские корабли, вошедшие в устье Невы тихим июльским рассветом 1240 г., сразу засекли сторожевые дозоры, заблаговременно выставленные там, «при крае моря», по приказу Александра Ярославича, и тревожная весть о вторжении немедля ушла в Новгород. Как свидетельствует летописец, молодой князь «не мешкая нимало», сию минуту объявил сбор дружины. Он ничего не стал сообщать во Владимир [302]. Не стал ждать он и сбора общего новгородского ополчения, на что было бы потеряно несколько дней. Как талантливый полководец, он наверняка понял: промедление —смерти подобно. И, как ранее отец, Ярослав Всеволодович, тоже постарался упредить врага. «Братья! — лишь сказал князь дружине перед выступлением. — Не в силе Бог, а в правде! Вспомним слова псалмопевца: сии же во оружии, и сии на конех, мы же во имя Господа Бога нашего… Не убоимся множества ратных, яко с нами Бог!» [303]
Форсированным маршем князь Александр бросился к Неве, преодолев за день более 150 км, и успел застать шведов на привале близ устья реки Ижоры. Причем, отмечает историк, «в том, что успели конные отряды, не было ничего удивительного: это расстояние русские всадники, если ехали «вборзе», «о-дву-конь», обычно преодолевали за 12–14 часов. Но к месту сражения успели и пешцы (пешие ратники)! Значит, возможно, часть пути они проплыли на ладьях (по Волхову)…» [304]В дороге к ним присоединились ладожане [305].
Вражеские корабли стояли при впадении Ижоры в Неву. Шведская знать, рыцари и католическое духовенство ночевали на берегу, в шатрах, даже не выставив караулов, что еще раз доказывает: быстрого подхода противника они действительно не ждали. Но этой-то самоуверенной беспечностью врага и воспользовались русские. За лагерем крестоносцев неусыпно следил со своим небольшим отрядом начальник приморской стражи, ижорский старшина Пелтусий, в св. крещении —Филипп. Летописец свидетельствует: приняв православие и живя среди соплеменников-язычников, он свято исполнял заветы своей новой веры. Пелтусию удалось точно разведать все пункты расположения неприятельского войска и вовремя сообщить эти сведения подошедшему с дружиной Александру Ярославичу.
Тогда же сообщил Пелтусий молодому князю и еще одну весть. Вот как передает летописец его слова: «Всю ночь провел я без сна, наблюдая за врагами, — говорил ижорец, отступив немного в сторону вместе с Александром. — На восходе солнца услыхал я шум и увидел на воде насад (ладью) с гребцами. Посреди насада стояли, положив на рамена (плечи) друг другу руки, святые мученики Борис и Глеб, а гребцы, сидевшие в насаде, были «яко мглою одеяни». И рече Борис: «Брате Глебе! Вели грести, да поможем сроднику своему великому князю Александру Ярославичу». Увидав дивное видение и услышав святых мучеников, я «стояще трепетен, пока насад не ушел от очей моих…». Что ответил Александр, выслушав рассказ потрясенного воина, недавнего язычника? Летопись на века зафиксировала только тихое и задумчивосмиренное: «Не говори никому об этом…» [306]
Битва с крестоносными агрессорами началась утром 15 июля 1240 г., вдень памяти святого равноапостольного русского князя Владимира. (Описание ее оставил нам современник, бывший, как полагают исследователи, дружинник Александра Ярославича. Себя автор называет «самовидцем» события и говорит, что, кроме того, использовал сведения, собранные «от отецъ своих». Позднее это описание было включено в «Житие Александра Невского» [307].) Шведское войско насчитывало 5000 человек, значительно превосходя силы новгородцев (около 1000 человек княжеской дружины и еще 300–400 человек вспомогательной рати ладожан и ижорцев [308]). А потому победу могло принести только одно —внезапность удара, а также умелое использование того обстоятельства, что шведы были разобщены. И, подчеркивает историк, «молодой полководец [309]превосходно использовал обстановку. Сомкнутым строем княжеская дружина неожиданно выехала из леса и ударила в центр спящего шведского стана. Тревожно завыли трубы. Воины на кораблях спешно вооружались, чтобы прийти на помощь гибнущим рыцарям. Но пешие русские ратники под командованием «новгородца Миши» (как его называет летописец) уже бежали вдоль берега, рубили и сбрасывали мостки (сходни), отталкивали суда. Помощи рыцари так и не дождались» [310]. Навстречу шведским стрелам и копьям русские по местам вторгались даже на корабли —над одним, вторым, третьим там стали взвиваться русские стяги. Рыцарей в тяжелых железных доспехах сбрасывали в воду. Одни гибли сразу, других кое-как подбирали с соседних шнек. Три шведских корабля были потоплены.
А на берегу тем временем шла жестокая битва. Русские дружинники везде теснили шведов. Новгородец Савва пробился к златоверхому шатру командующего шведскими войсками и подрубил основной опорный столб —шатер рухнул, вызвав панику в шведских рядах. «Полки же Александровы, видевши падение шатерное, возрадовались». Во главе русской конницы стрелой летел сам Александр. Врезавшись в гущу шведских войск, он ударом копья сразил их полководца —знаменитого ярла Биргера, королевского зятя, некогда основавшего шведскую столицу Стокгольм. «Возложил Биргеру печать на лице острым своим копием…» [311], как передает летописец [312].
Вообще, отчаянная храбрость и богатырская удаль русских ратников была главной чертой этого стремительного и жаркого сражения. Даже вокруг князя кипел жестокий бой. «И ту бысть великая сеча», — передает современник, оставивший нам подробное описание битвы. Например, новгородец Сбыслав Якунович, вооруженный одним лишь топором, «многажды» врывался в ряды шведов и геройски бился, «не имея страха в сердце своем». Конный дружинник Гаврила Олексич так увлекся погоней за одним из знатных рыцарей, что взъехал верхом на палубу корабля. Шведские корабельщики сбросили храбреца вместе с конем в реку, но он сумел выбраться на берег и тут же схватился со шведским «воеводой», пытавшимся собрать вокруг себя рыцарей. Пешие ратники новгородца Миши захватили три шведских шнека (корабля) и потопили их, свидетельствует летописец. Яков, ловчий Александра, лишь недавно попавший к княжескому двору из Полоцка, «наехав на шведский полк с мечом» сражался так отважно и мужественно, что сам князь «похвалил его». Наконец, не отходивший от Александра слуга Ратмир «бился пешь и обету пиша его мнози» шведы, и после яростного боя от многих ран пад, скончался [313].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: