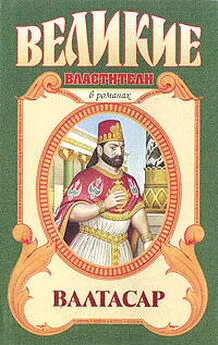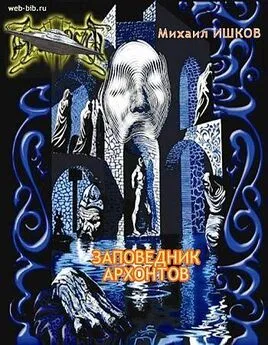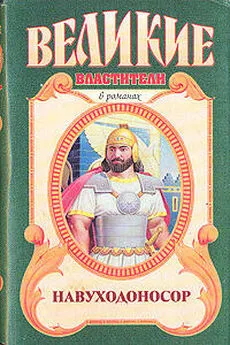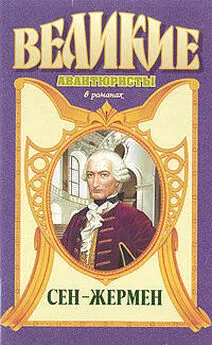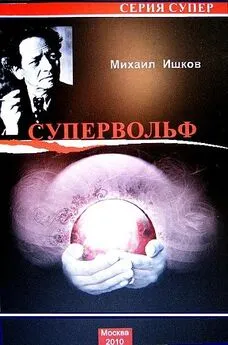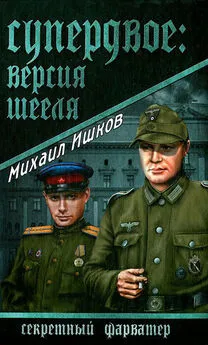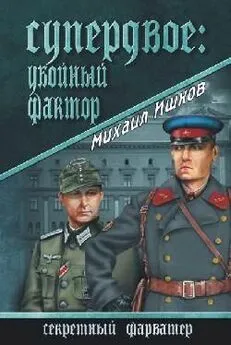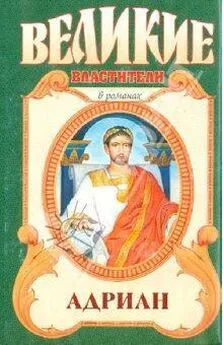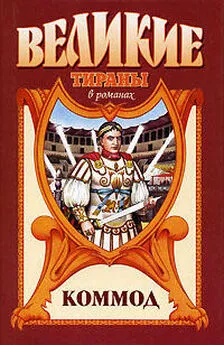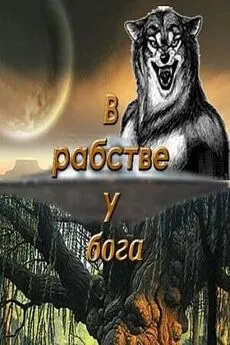Михаил Ишков - Валтасар
- Название:Валтасар
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательства: Астрель, АСТ
- Год:2002
- Город:Москва, СПб
- ISBN:ISBN 5-17-010434-0, 5-271-03829-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Ишков - Валтасар краткое содержание
Новый роман Михаила Ишкова продолжает рассказ о событиях, связанных с именем легендарного правителя Вавилона Навуходоносора, и посвящен крушению Вавилонского царства. Знаменитые слова «Мене, мене, текел, упарсин», вспыхнувшие на стене дворца Валтасара, последнего вавилонского царя, завершили исторический круг, имевший началом разрушение Ниневии, столицы Ассирийского государства.
Валтасар - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Во время прощания Даиферн предложил Нур-Сину дать рекомендательные письма к князьям, которые могли бы помочь вавилонскому послу в столице. Нур-Син поблагодарил, отказался и объяснил отказ тем, что подобные послания, тем более в руках чужака, вещь очень опасная. Будет лучше, если вождь направит гонцов к друзьям, чье влияние было бы небесполезно Нур-Сину для установления прочного мира между Астиагом и Набонидом, а он, Нур-Син, по прибытию в столицу мог бы передать на словах привет тем сильным в Экбатанах, к кому Даиферн испытывает полное доверие. Тот подумал, выторговал еще несколько мин золота и согласился.
Первым, кому написал Даиферн, был князь Гарпаг, первый среди приближенных Астиага как по родовитости, так и по уму. Отправил гонца и к внуку царя, персидскому царю Киру. Тот по молодости лет еще не пользовался большим влиянием при дворе, однако разумом и умением заводить друзей далеко превосходил Спитама, которого Даиферн иначе как «недоноском» не называл.
— Стоит короне перейти к этому недоноску, — делился он с чужаком, — и поднимутся все наши племена. Что тогда ждет Мидию?
Нур-Син уклончиво пожал плечами.
— То-то и оно, — проворчал Даиферн. — Стал бы я с тобой дружить, если бы в Экбатанах не запахло жареным.
Он радушно похлопал посла по спине, потом весело добавил.
— Стал бы я возиться с тобой, если бы не помощь Вавилона, которая поможет нам, кадусиям, устоять в кровавой междоусобице.
Нур-Син, сумевший сохранить хладнокровие, тоже засмеялся.
— Это ты верно заметил. За моим царем не пропадет. Он ценит друзей. Он никогда не бросит их в беде.
Глава 3
В семистенные Экбатаны вавилонский посол прибыл, уже в достаточной степени разбираясь в хитросплетениях внутренней жизни мидийского двора, в глухой и плохо скрываемой вражде, которую испытывали друг к другу племенная знать и партия жрецов-магов, ратовавших за введение в стране единообразного культа поклонения огню. Эта вражда прорывалась в бесконечных диспутах, проходивших в присутствии царя, в спорах о первенстве в той или иной церемонии, которые проводились в столице Мидии. Религиозные страсти кипели и среди низов. На базарах нередко вспыхивали стычки между непримиримыми сторонниками Спитама и теми, кто, как и прежде, склонял голову и перед священным огнем Атаром, и перед богом солнца Митрой, и перед богиней плодородия Анахитой, местной Иштар, чьи алтари и обряды не отличались от вавилонского культа, и перед благим духом воды Апам-Напатом, а также не забывал отсыпать горсть просяной каши, отложить луковицу дэвам и даже самому Ангро-Майнью. Подобная нетерпимость, проявляемая по большей части поклонниками «истинного пути, указанного Заратуштрой», казалась вавилонянам странной и отвратительной — в Вавилоне было около полсотни крупных святилищ и более трехсот мелких капищ, и если приверженцы того или иного великого бога начнут ссориться между собой, от города ничего не останется. Никому в голову не приходило запрещать молиться выбранному покровителю.
Понятно, что в таких условиях Нур-Син и его спутники должны были вести себя крайне осторожно. При заранее недоброжелательном отношении царя к посланцу Набонида осквернение святого огня или оскорбление каких-либо иных святынь — земли, воды, коровы и растений — могло быть достаточным поводом для высылки посла или его убийства. Нур-Син всю дорогу объяснял своим офицерам, что самым тяжким грехом в Мидии считается нарушение ритуальной чистоты. Наиболее отвратительными проступками последователи Заратуштры, которых было большинство в столице, полагали сожжение трупа умершего, употребление в пищу падали и противоестественное удовлетворение похоти.
— Так что, — предупреждал Нур-Син спутников, — не вздумайте пнуть корову, которая загородит вам дорогу или наделает лепешек вам на сапоги. Если придется резать овцу, смотрите, чтобы ни капли крови не пролилось на грунт. Не сплевывайте на землю и не вздумайте справлять естественные надобности прилюдно — это считается здесь постыдным делом. Доведется договориться с девкой, ложитесь на нее сверху, по-людски.
Офицеры и слуги покатывались со смеху. Улыбался и Нур-Син, однако на сердце был тревожно, и это несмотря на то, что свою главную задачу посольство, считай, выполнило: со дня отъезда из Вавилона прошло уже четыре месяца, близился новый год, а они все еще никак не могли добраться до столицы. Было непонятно, почему мидийский царь с таким безразличием относился к запоздалому прибытию посольства? Может, задавался вопросом Нур-Син, Астиагу вовсе не хотелось иметь дело с посланцами «узурпатора», как называли в Экбатанах Набонида? Может, в царском дворце, который назывался «верхним замком», уже все было решено, и появление Нур-Сина являлось ненужной помехой для Астиага, соринкой в глазу, от которой следовало побыстрее избавиться?
Подтверждала его догадку и унизительная встреча посольства в Экбатанах. К Астиагу их не допустили, распорядитель приказал разместить посланцев Набонида на одном из самых захудалых постоялых дворов. Более того, два дня их держали практически взаперти, в пределах караван-сарая и только утром третьего дня разрешили выходить в город. После такого приема Нур-Син связывал свои надежды исключительно с соотечественниками, проживавшими в Экбатанах — купцами, ремесленниками и их слугами, а также с теми из заговорщиков, кому надоело жить на чужих хлебах. Нур-Син имел долгую и трудную беседу с Акилем и, в конце концов, сумел настоять на том, чтобы тот, не привлекая внимания соглядатаев, встретился с беглецами из Вавилона и выяснил, кто из них не прочь вернуться на родину. Если таковые найдутся, луббутум должен выяснить все, что они знают о взаимоотношениях внутри царской семьи и двора. Пусть расскажут в деталях, как царь Мидии относится к новому вавилонскому царю, его старому знакомому, ведь в прежние дни они были даже дружны. Во время войны с Лидией именно Набонид по поручению Навуходоносора сумел примирить Киаксара и Креза. [65] На двадцать первом году царствования Навуходоносора после долгой кровпролитной войны лидийцы и мидийцы сошлись в решительном сражении на берегах реки Галис. Эта произошло 28 мая 585/4 г. до н. э., в день полного солнечного затмения, пробежавшего в тот раз по территории полуострова Малая Азия. Царь Вавилона Навуходоносор заранее предупредил соперников о приближающемся небесном явлении, которое можно было истолковать как гнев богов, причем предупреждение Навуходоносора является историческим фактом. Уже в V в. до н. э. вавилонские жрецы умели рассчитывать солнечные и лунные затмения на многие годы вперед. Конечно, случайностью следует считать совмещение с точностью до часов генерального сражения и небесного феномена, все равно в этом совпадении есть какая-то необоримая мистическая сила. Посредником при переговорах Киаксара и Алиатта выступали Набонид, посланец вавилонского царя, и правитель Киликии. Здесь же Алиатт согласился отдать в жены за наследника мидийского престола Астиага свою дочь, красавицу Ариену. После чуда на реке Галис мир в Азии, за который так ратовал Навуходоносор, продержался более тридцати лет.
Интервал:
Закладка: