Камил Икрамов - Все возможное счастье. Повесть об Амангельды Иманове
- Название:Все возможное счастье. Повесть об Амангельды Иманове
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство политической литературы
- Год:1983
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Камил Икрамов - Все возможное счастье. Повесть об Амангельды Иманове краткое содержание
Камил Икрамов известен как автор книг о революции и гражданской войне в Средней Азии — «Караваны уходят», «Улица Оружейников», «Круглая почать» и фильмов, созданных по этим книгам, — «Красные пески», «Завещание старого мастера». Его перу принадлежат также исторический роман «Пехотный капитан», приключенческие повести «Скворечник, в котором не жили скворцы», «Махмуд-канатоходец», «Семенов» и др.
Пять лет прожил писатель в Казахстане, где и возник замысел книги о народно-революционном движении, которое возглавил легендарный Амангельды Иманов. Яркая личность главного героя, судьбы людей, окружавших его, и увлекательный сюжет позволили писателю создать интересную книгу, адресованную массовому читателю.
Повесть, получившая одобрение прессы и читателей, выходит вторым изданием.
Все возможное счастье. Повесть об Амангельды Иманове - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Не отбывая воинской повинности, но всей душой горя желанием послужить в тяжелые минуты жизни нашей Родины своему ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ, киргизы щедро жертвовали на нужды войне все, что могли: давали и деньги, и скот, и лошадей, но тем не менее глубоко чувствовали, что сравняться с теми, кто отдает на защиту Родины свою кровь, свою жизнь, они далеко не могут.
Томились от этого тяжелого чувства благородные сердца кочевников, но не в силах были киргизы лично принять участие в войне даже и в качестве добровольцев…» А может, прав Курбатовский: «Наискось, со свистом, вроде бы по касательной». Все так нынче пишут. Подальше от правды, наискось к уму.
«Не имея достаточных средств, чтобы создать свои отдельные киргизские полки, как то сделали туркмены и др. богатые инородцы, киргизы не чувствовали себя в силах поступать в ряды общей армии: не зная русского языка, совершенно незнакомые с европейской обстановкой тех местностей, где идет война, киргизы с горечью сознавали, что, оторванные от родных своих кочевок и разбросанные поодиночке в рядах обширной русской армии, они растеряются от чуждой им обстановки и не смогут принести никакой пользы общему делу».
Эверсман крякнул. Это бестактно, Курбатовский глуп: на эти строки могут обидеться.
«Ныне воспоследовавшее 25 июня ВЫСОЧАЙШЕЕ Повеление разрешает все эти гнетущие киргиз вопросы, и, даруя киргизам широкую возможность принять личное участие в деле обороны Государства, ставит их в такие условия исполнения ими своего верноподданнейшего долга, которые дадут киргизам возможность среди своих же сородичей послужить ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ и принести пользу Родине своим личным трудом на войне, не боясь ни незнания языка, ни незнания местных условий жизни и не обладая, наконец, никакими познаниями в военном деле».
Курбатовский — дурак, и хлопот мне с ним предстоит много, решил Эверсман.
«ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ благоугодно было Повелеть — привлечь всех инородцев, не отбывающих воинскую повинность, в том числе и киргиз, для военных целей в качестве рабочих, а не солдат, для работ по постройке укреплений, по устройству дорог и прочих сооружений в тылу армии, т. е. вне боевой линии.
Для выполнения этих работ призванные киргизы будут соединены в артели, причем кроме харчей от казны будут получать еще и поденную плату.
Призыву в первую очередь подлежат все киргизы в возрасте от 19 до 31 года, здоровые и годные к работам.
Объявляя об этом киргизскому населению ВЫСОЧАЙШЕ вверенной мне области, выражаю твердую уверенность, что те киргизы, которым выпадет счастье своими работами способствовать успехам нашей доблестной армии, сумеют оправдать оказываемое им ГОСУДАРЕМ ИМПЕРАТОРОМ высокое доверие и на деле докажут свою безграничную Ему преданность, которую я хорошо знаю и о которой имел счастье не раз лично докладывать ЕГО ВЕЛИЧЕСТВУ.
1 июля 1916 г. Оренбург. Губернатор, Камергер Высочайшего Двора Эверсман».Глава двадцатая
Иван Деев служил фельдшером на Байконурских копях. Амангельды познакомился с ним через младших братьев. Они встречались нечасто, но каждый раз батыр удивлял фельдшера дотошностью; обо всем, что его интересовало, батыр спрашивал прямо и старался добраться до сути. Вначале это касалось причин возникновения и хода мировой войны. Батыр неотрывно глядел в глаза собеседнику и спрашивал, кому, по мнению самого Деева, эта война выгодней всего: русским или немцам? богатым или бедным? молодым или старым? В таком подходе Деев видел не только желание Амангельды разобраться во всем самому, но попытку проверить ум и искренность собеседника. Позже, убедившись, что русскому фельдшеру можно доверять, Амангельды стал интересоваться, почему происходят забастовки, кто и как готовит стачки рабочих на фабриках России, какие требования предъявляют забастовщики хозяевам и как часто удается им добиться своего.
Недели за три до появления приказа о мобилизации Амангельды специально приехал в Байконур, чтобы расспросить Деева о том, как проходит в России призыв на военную службу.
— Ходят слухи, что казахов хотят взять на войну. Что вы об этом думаете?
Деев отвечал, что слухи эти и вправду ему известны, что от правительства по нынешним временам всего можно ожидать, но брать, видимо, будут не на фронт, а на тыловые работы, которые хуже фронта, потому что — каторга. Амангельды, видимо, ранее продумав все, о чем хотел спросить, узнавал про то, как составляются мобилизационные списки, кто обычно их проверяет, как происходит медицинское освидетельствование.
Приказ Эверсмана никого в Тургайской области врасплох не застал. Как люди узнавали и узнают все наперед, неизвестно, но дня за три до выхода газеты казахи, жившие поблизости от железной дороги, русских поселений и городов, стали быстро сниматься с привычных мест и откочевывать в неизвестном направлении. Люди бросали сенокосы, засеянные поля, без надзора оставляли зимовки. Как только приказ губернатора был объявлен официально, бегство стало массовым. Куда они бежали, на что надеялись? Разве что выбраться за пределы империи, в горы уйти? Приказ о мобилизации подтвердил, что и самые мрачные слухи подтверждаются. Случись это на месяц позже или на месяц раньше, многие точно так же не знали бы, что им делать, чтобы избежать неминучести. Удручало в приказе губернатора не только то, что призыву подлежат все в возрасте от 19 до 31 года, но и то, что они — в первую очередь. Значит, будет и вторая очередь. А тогда что? И еще страшно звучало в приказе лицемерие и цинизм, то самое, что сознательно или не вполне бессознательно внедряют в подобные документы истинно государственные люди. Кому может прийти в голову, что киргизское население «с чувством глубокого удовлетворения и с искренней радостью», пожертвовав на войну уйму денег, скота и лошадей, отдаст еще сыновей и мужей для того только, чтобы преодолеть «тяжелое чувство какой-то ничем не заслуженной отчужденности».
Волостной управитель Смаил Бектасов в кругу друзей подсмеивался над подобными выражениями. Ему легко было смеяться, потому что старший сын, студент университета, призыву не подлежит, а младшие не подросли. Он и так для своих выгадал бы поблажки, но труднее стало бы выполнять волю вышестоящих начальников, трудно с другими жителями волости, и особенно с теми, кто считался родней волостному.
Родичи вначале ни о чем прямо не просили, лишь глядели чуть пристальней и родство свое подчеркивали при случае: про общих теток заговаривали, про дедов вспоминали.
Первым с просьбой пощадить двух внуков явился не родич, а вовсе давний враг отца Яйцеголовый Кенжебай. У него испокон не было сыновей, а внуки вот подросли, и в них он души не чаял. Эта любовь вернула Кенжебаю жажду деятельности и пробудила в нем былую предприимчивость. Он уже не нищенствовал, а существовал вполне достойно, как подобает старику. Внуки уважали деда за былую удаль, за нрав, за рассказы о прежних временах.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
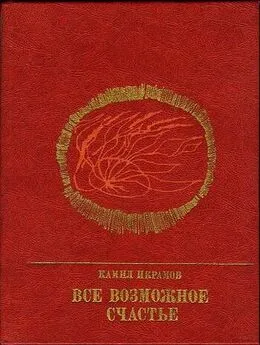

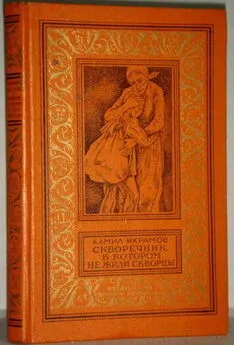
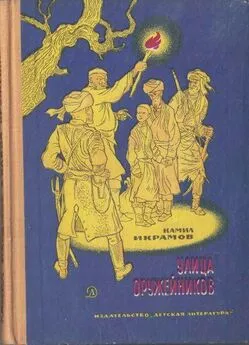
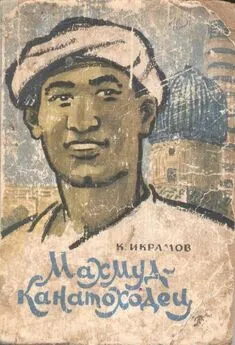
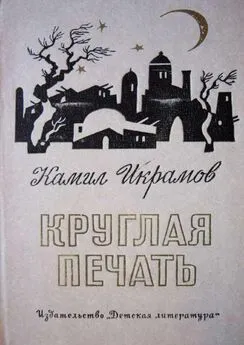
![Камил Икрамов - Дело моего отца [Роман-хроника]](/books/1080195/kamil-ikramov-delo-moego-otca-roman-hronika.webp)
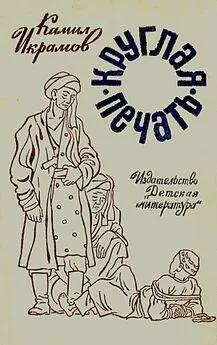
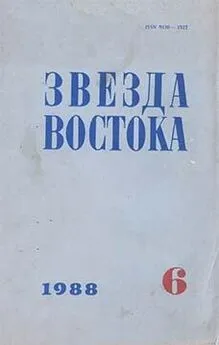
![Борис Бедный - Неразменное счастье [повесть и рассказы]](/books/1147710/boris-bednyj-nerazmennoe-schaste-povest-i-rasska.webp)